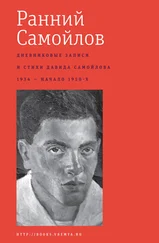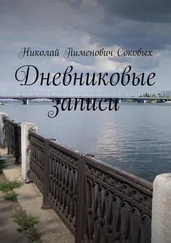Вот ты пишешь о в два раза меньшей надежности двухшовной трубы и ссылаешься на «неопровержимость» теории вероятности. А ведь анализ показывает, что надежность трубопровода (даже если мы гипотетически отнесем ее только к одним продольным швам трубы, не считая всех остальных факторов) в большей степени зависит от вероятности безотказной работы (качества) трубы и в меньшей степени от количества упомянутых швов. Ведь только при очень низкой вероятности безотказной работы одношовной трубы мы получим действительно в два раза ощутимо меньшую надежность трубопровода определенной длины (ну, например, в 1000 км) в варианте исполнения последнего из двухшовных труб. А если мы примем упомянутую вероятность безотказной работы одношовной трубы на уровне 0,99999, то количество отказов в таком трубопроводе хотя и будет отличаться также в два раза, но только на уже не ощутимо низком абсолютном уровне, приближающимся к единице. Трубу я взял в расчете длиной 18 м. Что касается надежности шва, то его надо обеспечивать на максимально возможном уровне, в том числе и «небезуспешным», как ты придумал, механическим упрочнением.
Далее у тебя идет речь о якобы более низкой себестоимости одношовных труб.
Но эти твои рассуждения напоминают мне давний спор с Цели-ковым о, также якобы меньшей, себестоимости двутавровых сварных балок в сравнении с катаными, когда он не принимал в расчет отсутствие в стране свободных листовых мощностей и не отдавал отчет себе в необходимости, для реализации его проекта, строительства мощного листового стана стоимостью в тот самый балочный стан.
В нашем с тобой случае проще. Здесь прямо нужен стан 5000, и говорить о какой-то стоимости трубы вне главной ее составляющей – стоимости исходного листа – просто бессмысленно. А ведь последняя будет ой-ой! С учетом же всеми желаемой приличной окупаемости огромных на листовой комплекс (там ведь еще черт знает какой чисто металлургический передел!) капвложений – тем более.
Мне трудно судить о затратах на сварку, но думаю все же, что они будут соизмеримы с затратами на все остальное в чисто трубном комплексе. Ведь его двухшовный вариант проще и легче и по приемной части и по подготовке полуобечаек.
Так что не все здесь однозначно, и потому я приветствую твой главный вывод о том, «чтобы заказ не ушел за границу!!!». Но снова вопрос: какой заказ? Ты имеешь в виду трубный комплекс, а я, исходя из наших реальных возможностей (всех – и конструкторских, и политических, и рваческих), думаю, как бы не ушла сама труба и именно в той постановке, о которой я писал губернатору и на которую ты не прореагировал в силу своей собственной увлеченности.
В части комплекса полагаю, что из-за желания, кроме того, сделать все быстро нам без иностранного инжиниринга (по крайней мере) не обойтись. Нет сил. 15 лет – почти ни одного молодого конструктора. 20 лет (страшно!) – ни одного более или менее нового комплексного проекта. Не поднять. А если так, то остается техника. Что заказывать с учетом стратегической перспективы и, в том числе, возможности производства трубы большего (чем 1420 мм) диаметра?
Я не затронул тут еще один вопрос – о самоценности собственно стана 5000, но он в достаточной степени освещен мной во втором письме губернатору. Такой стан не только не нужен сегодня, но, думаю, и вообще в наш компьютерно-ракетный век. В порядке дополнительного разъяснения своей позиции посылаю тебе также рукопись статьи, которая, как мне передали, напечатана в майском (сего года) номере журнала «Сталь».
Вот так. Придется тебе черкнуть пару строчек с учетом моих свежих соображений. Согласишься – хорошо. Нет – плохо, но не безнадежно.
Пользуясь случаем, посылаю тебе еще одну свою небольшую книжку. Бывай здоров».
15.06
После недолгой болезни скончался в Москве Андрей Владимирович Третьяков.
Начиная эти дневниковые записи, я знал, что в силу своей житейской неорганизованности и периодической чем-либо увлекаемо-сти, вынужден буду писать о конкретных в них событиях с тем или иным отставанием во времени. Через неделю, месяц, а то и больше. Так оно и происходило на самом деле: многие здесь записи сделаны мною по воспоминаниям, так сказать задним числом.
В данном же случае оказался просто на грани некоего полумистического восприятия всего того, что можно связать со смертью и последними месяцами жизни Андрея. Такое ощущение возникло у меня совсем недавно, через полтора года после смерти Андрея, когда я вдруг спохватился и установил, что в моем архиве, в моих записях этого периода не оказалось ни одного слова о Третьякове, ни одного о нем упоминания, ни моего, ни других, не оказалось ни одного из наших с ним писем, датированных 2000-м годом. А ведь, знаю, – они были и мои и его, причем мои компьютерные, а его рукописные. И вдруг ни одного – ни в компьютере, ни в связке писем. Все письма за 98 – 99 годы, в том числе, мое последнее от 12.12.99 года есть, а за 2000-й год – ни одного. Точно какая-то мистика.
Читать дальше
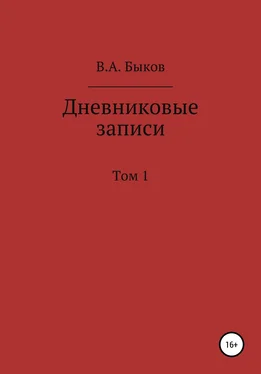
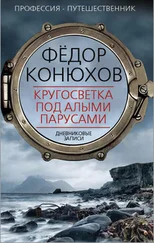
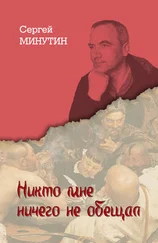

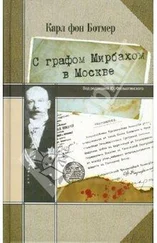
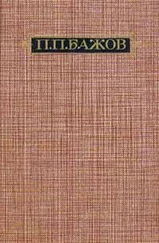
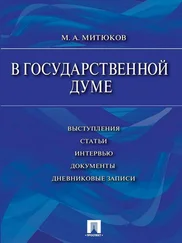
![Давид Самойлов - Ранний Самойлов - Дневниковые записи и стихи - 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/431447/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres-thumb.webp)