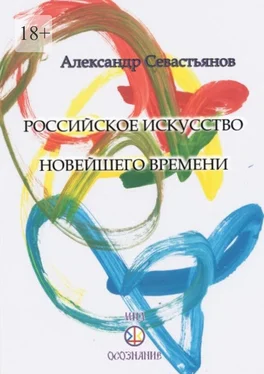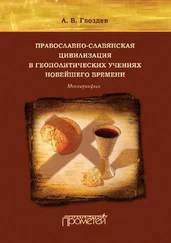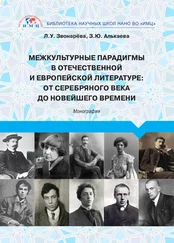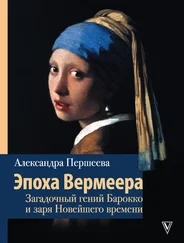Важнейшей особенностью древнерусской книжности изначально была ее сугубая клерикальность: книжный репертуар как рукописной, так и печатной русской книги был более чем на 95% религиозным. Среди 708 русских, сербских и болгарских пергаментных рукописей XI—XIV вв., выявленных еще в конце XIX в., мирских книг всего-навсего 20. В этом отношении у всех историков книги царит более-менее единое мнение: «Переписывались практически только священные и богослужебные книги, святоотческая и богословская литература и т. п. А вот богатая светская литература Византии, продолжавшая традиции античной, за немногими исключениями не дошла до восточных славян, что характерно» 11 11 История книги: Учебник для вузов / Под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. М.: Издательство МГУП «Мир книги», 1998.
. Международным языком науки к этому времени уже прочно стала латынь, которая с раннего средневековья была основной основ школьного образования во всех странах Запада 12 12 В частности, по современным подсчетам, 77% инкунабул было издано на латинском языке (L. Febvre, H.-J. Martin. The Coming of the Book: The Impact of Printing 1450—1800. – London & New York, 1984. P. 248—249). Это положение сохранялось в Европе по крайне мере до XVIII века.
. Однако именно переводы с латыни – «наречия ересиархов» – на православную Русь не шли, за редчайшим исключением 13 13 Еремин И. П. Литература Древней Руси. М.—Л., 1966, с. 9—10.
.
Эта особенность еще сильнее бьет в глаза при сравнении репертуара западных инкунабул и русских рукописей того же времени. В первом случае научная, познавательная литература занимает гораздо большее место: свыше 30% наименований против 2,7%, разница более чем десятикратная 14 14 Подробнее см. в кн.: Севастьянов А. Н. Битва цивилизаций: секрет победы. – М., Книжный мир, 2013.
. В абсолютных цифрах разрыв еще более поражает.
Тенеденция сохранялась и в XVII столетии. Лишь считаные единицы печатных книг учебного и светского содержания (точнее: семь) были опубликованы в России за весь тот век, хотя в общей сложности было выпущено свыше 750 изданий.
История русского образования подтверждает эти наблюдения. Начальное образование находилось в руках священоначалия, а другого и вовсе не существовало. До XVIII века в России, как известно, не было ни университетов, ни ученых в собственном смысле слова (Московская славяно-греко-латинская академия была создана как кузница церковных кадров). Между тем, в существующих с XI века на Западе университетах уже с XIV века основной поток студентов устремлялся на овладение не церковными, а светскими профессиями: вплоть до начала пятнадцатого века теологи составляли всего около 40% выпускников, а в дальнейшем и того меньше.
Все вышесказанное позволяет подчеркнуть особый, отличный от западного, характер русской образованности и книжности, который в целом можно характеризовать как баснословный, далекий от позитивного знания. Эта особенность не только выражала, но и отражала специфику русского менталитета, русских духовных устремлений.
Пронизанность всего сознания типового русского интеллигента мифами всех сортов, от социальных до космогонических и теологических, есть его характерная и неотъемлемая черта, берущая исток в неизмеримых исторических глубинах. Поэтому напряженный поиск высших смыслов в искусстве, оторванность от земного, материального и устремленность к небесному, идеальному – неистребимая черта художников и писателей отечественной закалки, независимо от их религиозных убеждений. Она может проявляться в идеологии, в том числе христианской или коммунистической – неважно, – но именно это и позволяет критикам говорить о «духовности» русского искусства и культуры вообще. «Народы Европы искали пользу, а нашли истину», – это сказано философом явно не про нас, русских. Для которых, напротив, поиск истины всегда стоял на первом месте, а о пользе думалось напоследок.
Во-вторых,с такой же уверенностью можно утверждать, что популярный в Древнем Риме девиз «Пусть рухнет мир, но торжествует закон!» никогда не мог бы родиться в русской голове. Европейский «правоцентризм» – сосредоточенность на идее права (в том числе на «правах человека»), на идее верховенства права – органически чужд, совершенно не свойственен русским людям. Которые предпочитали и предпочитают жить по совести и по обстоятельствам, а не по законам и нормативам. И которые подобный императив (пусть-де рухнет мир, но…) расценивают как «правовой кретинизм». Шансов на изменение этого положения вещей пока не предвидится – см. об этом вышеупомянутый труд Касьяновой.
Читать дальше