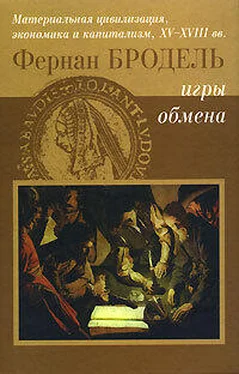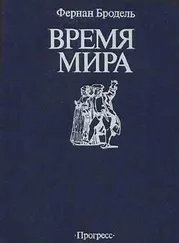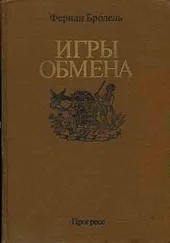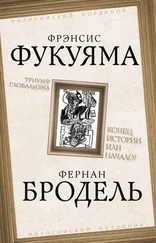Не преувеличивая объяснения Н. Джекобса, заметим, что в Японии жребий в пользу капиталистического будущего был брошен в эпоху Асикага (1368—1573 гг.) с утверждением экономических и социальных сил, независимых от государства (идет ли речь о ремесленных корпорациях, о торговле на дальние расстояния, о вольных городах, об объединявшихся в группы купцах, которые часто никому не были обязаны отчетом). Первые признаки такого относительного отсутствия государственной власти проявились даже еще раньше, с того времени, как утвердилась прочная феодальная система. Но эта начальная дата сама представляет проблему: сказать, что феодальная система, легко поддающаяся определению, возникла в 1270 г., значит быть слишком точным в такой области, где точность рискует оказаться обманчивой, и оставить в тени предварительные условия такого зарождения, образование за счет императорского домена крупной индивидуальной земельной собственности, которая еще до того, как стать наследственной по закону, поведет к набору войск для своего увековечения и для защиты своей автономии. Все это привело к фактическому образованию в более или менее длительные сроки могущественных, практически независимых княжеств, защищавших свои города, своих купцов, свои ремесла, свои частные интересы.
Тем, что, может быть, спасло Китай от феодального режима в минскую эпоху (1368—1644 гг.) и даже позже, невзирая на катастрофу маньчжурского завоевания (1644—1680 гг.), было постоянное наличие большой людской массы, которая предполагала преемственность, возможность возврата к равновесию. В самом деле, я склонен полагать у истоков феодальной системы некую «нулевую» ситуацию и слабую заселенность, результат то ли стихийных бедствий, то ли катастроф, то ли сильного обезлюдения, но в случае надобности в такой же мере и исходную точку в освоении относительно новой области. Первоначально Япония была архипелагом, на три четверти незаселенным. По словам Мишеля Вие 410, «определяющим фактом [было ее] отставание от континента», от Кореи и особенно — от Китая. Япония в те далекие века гналась за отблеском китайской цивилизации, но ей не хватало плотности населения. Цепь нескончаемых войн, войн диких, в которых небольшим группам людей с трудом удавалось подчинить себе противника или противников, обрекала ее на хроническую слаборазвитость, и архипелаг оставался разделен на автономные единицы, объединение которых силой трудно было сохранить и которые при первой возможности возвращались к своему свободному существованию. Образованные таким образом японские общества были хаотичными, разношерстными, разобщенными. Хотя наряду с их раздробленностью существовала власть тенно (императора, чья резиденция находилась в Киото), скорее теоретическая и сакральная, нежели светская, а также насильственная и оспаривавшаяся власть сёгуна, своего
К оглавлению
==600
рода мажордома меровингской эпохи, опиравшаяся на последовательно сменявшие одна другую более или менее долговечные столицы. В конечном счете именно сёгунат создаст правительство-баку фу и распространит его власть на всю Японию в правление Иэясу, основателя династии сёгунов Токугава (1601— 1868 гг.), которая будет править до самой революции Мэйдзи.
Несколько упрощая, можно сказать, что вместе с анархией, что напоминала анархию европейского средневековья, на разнообразной японской сцене на протяжении столетий ее медленного формирования все вырастало разом: центральное правительство, феодалы, города, крестьяне, ремесленники, купцы. Японское общество ощетинивалось вольностями, аналогичными тем, какие были в средневековой Европе, вольностями, которые в такой же мере были привилегиями, которыми можно было оградить себя, защититься, благодаря которым можно было выжить. И ничто не бывало улажено раз и навсегда, ничто не принимало односторонних решений. Было ли и в этом нечто от плюрализма «феодальных» обществ Европы, который порождал конфликты и движение? При Токугава, пришедших в конечном счете к власти, следует вообразить себе равновесие, которое без конца надо было восстанавливать, равновесие, элементы которого обязаны были приспосабливаться одни к другим, а не тоталитарно организованный порядок на китайский манер. Победа Токугава, которую историки склонны преувеличивать, могла быть только полупобедой, реальной, но неполной, как и победа европейских монархий.
Конечно, эта победа была победой пехотинцев и огнестрельного оружия, пришедшего из Европы (главным образом аркебуз, так как японская артиллерия больше производила шума, чем наносила ущерба). Немного раньше или немного позже даймё пришлось уступить, принять власть ловкого правительства, опиравшегося на солидную армию, располагавшего большими дорогами с организованными подставами, облегчавшими надзор и эффективное вмешательство. Им пришлось смириться с необходимостью проводить каждый второй год в Эдо (Токио), новой, удаленной от центра страны столице сёгуна, находясь там под своего рода домашним арестом. То была обязанность санкин. Когда князья возвращались в свои владения, они оставляли в качестве заложников жен и детей. В Эдо жил также, как заложник, и родственник тенно. При сравнении позолоченное рабство французского дворянства в Лувре и Версале покажется небывалой свободой. Следовательно, соотношение сил изменилось в пользу сёгуна. Тем не менее напряженность была очевидной и насилие оставалось в порядке дня. Вот в качестве примера инсценировка, которую сёгун Иэмицу (бывший в 1632 г., когда он наследовал своему отцу, совсем молодым человеком) счел необходимым устроить, дабы убедить всех и каждого в своей суверенной власти. Он созвал даймё. Когда князья прибыли во дворец и, как обычно, встретились в последней из передних, они оказались одни. Они ждут; они страдают от сильного холода, никакой еды им не предлагают; тишина, наступает ночь. Вдруг ширмы раздвигаются, и при свете факелов появляется сёгун. И говорит он как хозяин: «Всех даймё, и даже самых крупных,
Читать дальше