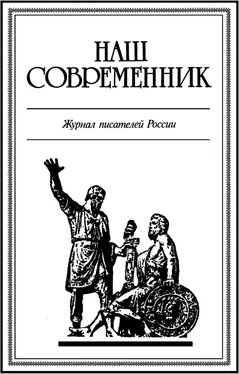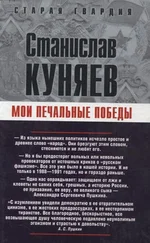— Твои бывшие друзья не верят в силу слова, а ведь Слово возникло в начале Бытия и Слово было Богом. Они не верят в бессмертие Слова и не помнят моих стихотворений “Пророк” и “Памятник”:
Нет, весь я не умру, душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит.
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
…Пушкин умолк, и облако опять стало поглощать его, а я в отчаянье закричал: — Александр Сергеевич! А как нам быть, если европейский мир кричит о правах человека на содомитскую жизнь! Ведь Вы сами пали жертвой заговора содомитов! — Пушкин раздвинул руками облако и пожал плечами: — На каждый роток не накинешь платок. Но их жалко. Они не понимают, что “Самостоянье человека” — происходит по Высшей воле, а права на грех им выдаёт князь тьмы. Он ждёт. Но пусть они вспомнят моё стихотворенье, которое я написал незадолго до смерти:
Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной…
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.
Особенно страшно читать в этом стихотворенье словосочетание “труп живой”, которое Лев Николаевич, как я предполагаю, взял у Александра Сергеевича, чтобы назвать им свою трагическую пьесу.
Тема эта неисчерпаема, и мне вспоминается, как я в середине 70-х годов, возвратившись осенью в Иркутск с Нижней Тунгуски из Ербогачена, где охотился и работал до тех пор, пока первые морозы не сковали и озёра и реку, встретился в Иркутске с Валентином Распутиным, с Ростиславом Филипповым, с Вячеславом Шугаевым, наговорился с ними о литературных делах, узнал о том, кто ещё из наших московских “шестидесятников” подписал какие письма, кто собирается валить из России в Израиль, а кто в Вену или в Америку, сел в скорый поезд и покатил с охотничьим рюкзаком, со своими пушными трофеями, со своей ижевской двустволкой на Запад… А по дороге, проезжая через свой уже родной Тайшет, через Красноярск и Новосибирск, с которыми я тоже породнился во время сибирской жизни, подвёл черту под чувствами и переживаниями той осени в стихотворении, которое впоследствии определило если не всё, то многое в моей жизни. Эпиграф к этому стихотворению, названному мной “Родная земля”, я взял у Анны Ахматовой: “И ложимся в неё, и становимся ею, от того и зовём так свободно своею”. Слава Богу, что Анна Андреевна, забыв о своих любовных победах и поражениях, вспомнила однажды о величественном обряде окончательного воссоединения каждого русского человека со своей родиной и подарила мне этот эпиграф…
Когда-то племя бросило отчизну,
Её пустыни, реки и холмы,
Чтобы о ней, желанной, править тризну,
О ней глядеть несбыточные сны.
Но что же делать, если не хватило
У предков силы родину спасти
Иль мужества со славой лечь в могилы,
Иную жизнь в легендах обрести?
Кто виноват, что не ушли в подполье
В печальном приснопамятном году,
Что, зубы стиснув, не перемололи,
Как наша Русь монгольскую орду?
Кто виноват, что в мелких униженьях
Как тяжкий сон тянулись времена,
Что на изобретеньях и прозреньях
Тень первобытной слабости видна?
И нас без вас, и вас без нас убудет,
Но, отвергая всех сомнений рать,
Я так скажу: что быть должно — да будет,
Вам есть где жить, а нам — где умирать…
Последняя строка этого стихотворения вольно или невольно, но перекликается с пушкинской любовью “к отеческим гробам”.
Я написал его на одном выдохе и лишь с годами, постепенно осмыслил его значение… Действительно, где жили и где упокоились большинство “детей Арбата”? Анатолий Кузнецов в Лондоне на Хайгетском кладбище недалеко от Бориса Березовского, Сергей Довлатов на еврейском кладбище где-то возле Нью-Джерси, Давид Самойлов в эстонской земле, Александр ГаличГинзбург в Париже на Сент-Женевьев-де-Буа там же, где лежит Виктор Некрасов, Фридрих Горенштейн на старом берлинском еврейском погосте, Михаил Дёмин-Трифонов на одном из парижских кладбищ, Иосиф Бродский после долгих мытарств, которых удостоился его прах, нашёл приют неподалёку от Венеции на острове Сен Микеле… Пётр Вегин, как и Наум Коржавин, захоронены где-то в Америке и поскольку так и не стали знаменитыми, то вскоре место их упокоения навсегда забудется. Будут помнить разве что самые близкие. Повезло Евгению Евтушенко и Александру Межирову. Им выпала доля лечь в родную переделкинскую землю.
Читать дальше