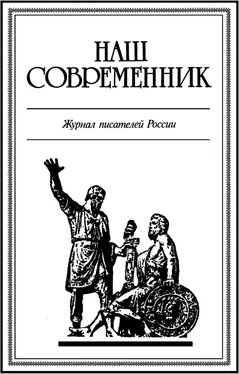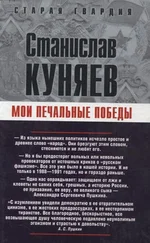И разойдутся тихо,
Сожалея,
Что не пожать уже его руки…
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся мёртвые венки…
Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни…
Осенний ветер… Опадает строчка:
“Россия, Русь, храни себя, храни…”
Я всегда вспоминаю эти стихи, когда, бывая в Вологде, прихожу на вологодское кладбище к Рубцову, к Виктору Коротаеву, к Владимиру Ширикову… Кладбище уже совсем другое, заросшее берёзами, и ухоженных могил с живыми цветами много больше, нежели в рубцовские времена… И вещие слова Николая Рубцова, выложенные на мраморе, по-прежнему обращены ко всем русским людям, приходящим к могиле поэта, который из потустороннего мира взывает к нам живым, чтобы мы хранили “Россию, Русь”…
Поэтому ни Рубцов, ни Передреев, ни Распутин никогда не понимали тех “шестидесятников”, которые жаждали покинуть нелюбимую родину, ненавистное государство, разорённую “рашку”, забывая о родных могилах, к которым после их бегства никто уже не придёт ни в пасхальные дни с крашеным яичком, с куличом и четвертинкой, ни в Родительскую субботу, и холмики могильные лет через десять-пятнадцать покроются перегноем, осядут, зарастут дикой травой, будут стёрты с лица земли дождями, снегами, ветрами, бегом времени.
* * *
В 1946 году в свои четырнадцать лет я, услышав песню на слова Исаковского “Летят перелётные птицы”, запомнил её на всю жизнь и однажды, когда шёл от загородного сада через всю старую Калугу в мою 9-ю железнодорожную школу, мне так захотелось спеть эту песню для себя одного вслух, что я свернул в наш парк культуры имени Горького на высокий берег Оки, оглянулся — никого нет, и запел: “Летят перелётные птицы в осенней дали голубой, / летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой, / а я остаюся с тобою, родная моя сторона, / не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна”.
А много позже, когда я вырос и возмужал, когда погрузился в мир гражданских страстей, выплеснувшихся на поверхность истории после “оттепели”, когда я не только умом, но и душой отделился от всех “перелётных птиц”, от всех “людей воздуха”, которые так пророчески изображены на знаменитых картинах Марка Шагала, то не раз вспоминал, что моё возмужание началось в светлый, холодный день 1946 года, когда я выдохнул в осеннее небо над Окою слова бессмертной песни:
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой,
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.
Но имя Михаила Исаковского так же, как имена Василия Розанова, Михаила Шолохова или Николая Рубцова, видимо ничего не значили для именитых “шестидесятников”, “улетевших” в “дальние страны”, чтобы сложить свои бренные останки на погостах Франции, Германии, Венеции, Америки, Эстонии, Британии. Подумаешь, какой-то Исаковский, прославивший колхозы и тирана Сталина! Я могу понять их чувства, но, на мой взгляд, судьбы подобных людей были ещё в XIX веке разгаданы великим поэтом, написавшим стихотворение, как будто бы обращённое к ним вчерашним и сегодняшним с пророческой строкой, достойной того, чтобы стать пословицей: “нет у вас родины, нет вам изгнания”.
Да и Александру Сергеевичу Пушкину, на мой взгляд, Михаил Исаковский был бы ближе и роднее, нежели Галич-Гинзбург или Дезик Самойлов-Кауфман. Потому что пушкинская молитва о патриотизме, которую он словно “Отче наш” выдохнул в письме к Чаадаеву, гласит до сих пор:
“Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблён, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал”.
С горькими мыслями о том, что ни Александр Пушкин, ни Михаил Лермонтов, ни даже ни Михаил Исаковский не сумели убедить и образумить наших “перелётных птиц”, оперившихся во время XX съезда, в том, что слова “мать сыра земля”, “Родина-мать” не случайно возникли и живут в нашем языке с незапамятных времён, что древнеримская поговорка, ставшая европейской, — “где хорошо, там и родина” — не для нас, а для блудных сыновей человечества, как и притча о блудном сыне. Я, прочитав молитву “Отче наш”, лёг спать, и приснился мне в ту ночь вещий сон. Приснилось, что иду я по какому-то бескрайнему полю, а над полем медленно летит облако, снижается, из облака выходит Александр Сергеевич, в цилиндре, с тросточкой, во фраке, словом, такой, каким он всегда рисовал себя на полях рукописей, — и когда я подошёл к нему, он властным движением руки остановил меня и произнёс:
Читать дальше