В «нормальных» условиях после 1918 года, когда национальное государство наконец было отвоевано, общественная миссия интеллигенции стала меняться: вместо «хождения в народ» она шла теперь в экономику, сыновья романтиков стали менеджерами и предпринимателями. Это воспринималось как новая интеллигентская миссия формирования среднего сословия. Осознание понесенных жертв, одержанного триумфа и тем выплаченных «святых долгов» – выполненный завет романтизма доказать «историчность» нации – служили для самоапологии и самоканонизации интеллигенции, вошедших надолго в ее плоть и кровь. В результате, несмотря на все разочарования, большая часть польской интеллигенции принимала Вторую республику как свое государство. И современниками, и в ретроспективе она также воспринималась как «Польша интеллигентская» ( Polska inteligentna ). От президентов, инженера Габриэля Нарутовича, профессора химии Игнация Мосцицкого, или премьер-министра музыканта Игнация Падеревского до рядовых служащих государственное ядро складывалось из интеллигенции. В массе своей интеллигенты поддерживали правящее большинство. Государство, в свою очередь, платило интеллигенции тем же, обеспечивая несравнимую ни с ранним, ни с более поздним временем выгодную для знаек иерархию доходов.
Новомученики интеллигенции во время войны (около четверти образованной элиты погибло, а среди университетских профессоров это число доходит до 40%) и ее ведущая роль в растущей оппозиции коммунистическому режиму не давали уйти в прошлое традиционному образу тех, «кто мыслит и действует за всю нацию, а следовательно, руководит ею». Несмотря на глобальные структурные перемены в образовательной системе и социальном происхождении образованных, политическая романтика «Солидарности» вновь переносит интеллигенцию на столетие назад, снова организуются подпольные общественные инициативы – теперь под диссидентским слоганом społeczeństwo obywatelskie (гражданского общества). Историк интеллигенции Ежи Едлицкий участвовал, например, в подпольном обучении в рамках Товарищества научных курсов и реинкарнации Летучего университета времен раздела Польши. Представьте-ка в пандан, что советский историк интеллигенции Вера Романовна Лейкина-Свирская пошла в народ или, скажем, декабристовед Милица Васильевна Нечкина вышла на Сенатскую площадь…
Конец восьмидесятых знаменует новый виток истории: создание Третьей республики опять воспринимается как триумф интеллигенции в союзе с рабочими «Солидарности». Опять интеллигенты на ведущих постах – от премьер-министра, основателя клуба католической интеллигенции Тадеуша Мазовецкого до сенатора кинорежиссера Анджея Вайды. И опять логическим следствием «нормальности» общественной жизни становится «демонстративный отказ от интеллигентской этики и переход к прагматизму». Прощание с ней – прощание с историей исключительности. Польская интеллигенция продолжает существовать как часть национального культурного наследия, но не как активный игрок в общественно-политической жизни. «Срок жизни так называемой интеллигенции тем длиннее, чем дольше продолжают существовать деформации общественного устройства», – пишет пресса. Вот как, к примеру, у восточных соседей.
Петербургская монархия не желала признавать посредников и делиться властью. Верная с XVIII века своей стратегии воспитания «нового рода людей» под жестким контролем государства, она и в XIX не оставляла попыток создать удобный для себя средний класс и лояльное образованное общество. Отсюда любовь власти от Петра I до обер-прокурора Победоносцева к прикладному, практическому знанию. Если граф С. С. Уваров грезит об альтернативной интеллигенции, то это космополитическая просвещенная аристократическая элита, благодаря которой существует европейская цивилизация и новая преображенная Россия. «Боги разума» ( dieux de l’ intelligence ) имеют местожительством просвещенное государство», – подчеркивал он, встречая (1829) в Петербурге путешествовавшего по России Александра фон Гумбольдта. Когда же появилась реальная историческая интеллигенция, предъявив свои притязания на представительство народа и общества, власть стала игнорировать непредсказуемую «прослойку», прибегая к риторике «народного самодержавия» и обращаясь напрямую к массам: «Я царь крестьян», – любил, как известно, говорить о себе Александр III.
Отсутствие политической власти интеллигенция с лихвой компенсирует властью символической, выигрывая в борьбе за умы и души подданных. Здесь государство с конца XIX века уходит в глухую оборону. Диктатура общественного мнения в России исключала сотрудничество с государством с такой же категоричностью, как в Польше сотрудничество с «заборцами». В отличие от немецких мандаринов, для русских либеральных профессоров (а нелиберальных зашикивали) термин «чиновник» звучал оскорблением – хотя от государственного жалованья никто добровольно не отказывался. «Прогрессивность» по умолчанию предполагала оппозиционность государству, и компромиссы в этом отношении пресекались жестко. Достаточно вспомнить обструкцию, которую устраивали студенты лояльным к власти преподавателям в – государственных – высших учебных заведениях империи. Не то что поддержка власти, даже «открытое исповедание политической умеренности, – писал только что высланный из Петрограда новой властью Семен Франк (1923), – требовало такого гражданского мужества, которое мало у кого находилось».
Читать дальше
![Денис Сдвижков Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции [litres] обложка книги](/books/431867/denis-sdvizhkov-znajki-i-ih-druzya-sravnitelnaya-i-cover.webp)
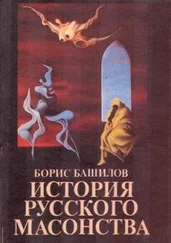


![Александр Бушков - Русский Шерлок Холмс [История русской полиции] [litres]](/books/386765/aleksandr-bushkov-russkij-sherlok-holms-istoriya-rus-thumb.webp)
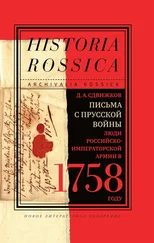

![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)

