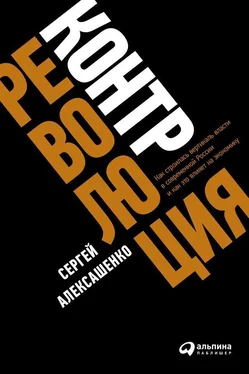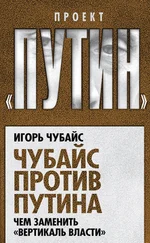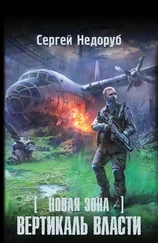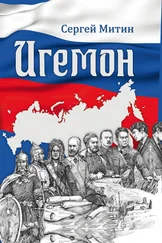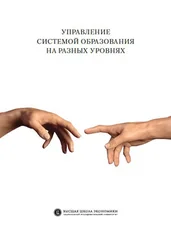* * *
Начиная судебную реформу в 2001 г., Кремль публично провозгласил ее целью повышение общественного доверия к судебной системе. Десять лет спустя, выступая в декабре 2012 г. на VIII Всероссийском съезде судей, Владимир Путин говорил об этом как о достигнутом результате (не забыв преподнести «по привычке» судьям очередной подарок [274] «…В ближайшие дни Совет Федерации рассмотрит и, надеюсь, одобрит закон, который с 1 января 2013 г. устанавливает новую систему оплаты труда. ‹…› Размер вознаграждения будет зависеть от профессионального уровня судьи, условий его работы, нагрузки, ученых степеней и званий. Увеличивается с шести до десяти количество присваиваемых судьям квалификационных классов. Это позволит сделать систему выплат более гибкой, дифференцированной и справедливой… будет укреплять гарантии независимости судов» ( http://kremlin.ru/events/president/news/17158 ).
). На первый взгляд, это подтверждалось социологами: если в 2002 г. доля доверяющих судам составляла 25 %, то к концу 2010 г. она выросла до 53 % [275] Согласно исследованиям «Левада-Центра», выполненным по заказу Судебного департамента, к 2010 г. число положительно оценивающих судебную систему даже превысило плановые ориентиры ( https://news2.ru/story/296283/ ).
. Однако одновременно с этим продолжала расти доля тех, кто не доверял судебной системе: правительство рассчитывало прийти к 6 %-ному уровню недоверия, но на практике этот показатель вырос до 43 % к концу 2010 г. В последующие годы оба показателя оставались на этом же уровне, что говорило об отсутствии какого-либо прогресса, а в общих рейтингах доверия суды оказывались существенно ниже президентской администрации, прокуратуры и ФСБ. Стоит ли удивляться тому, что в обновленной версии программы «Развитие российского правосудия» (2013–2020 гг.) показатель доверия к судам не был включен в критерии оценки ее эффективности? [276] http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/12/16/sudy-obnovili-adoveriya-net .
В 2010 г. Международная комиссия юристов проводила комплексное обследование российской судебной системы, по результатам которого выпустила свой доклад. Хотя с того времени прошло уже несколько лет, отдельные выдержки из него весьма точно характеризуют положение дел в российских судах:
«Несмотря на некоторые успехи в реформировании судебной системы, в частности в начале 1990-х, а также повышение размера заработной платы судей и улучшение материальных условий их существования, проводились и контрреформы, имевшие весьма пагубные последствия. Поэтому сейчас совсем не очевидно, что исполнительная и законодательная ветви власти всерьез предприняли последовательные попытки по созданию независимой судебной системы. Отсутствие четкой политической воли и консенсуса, несомненно, является далеко не последней причиной замедленного и неравномерного темпа осуществления судебной реформы… Существующее законодательство и административная практика, совершенно очевидно, только усугубляют неудовлетворительное состояние с независимостью судебной системы, так как не могут защитить судей от неправомерного влияния со стороны государства и частных лиц… Система требует от судей проявления лояльности по отношению к государственным органам и определенным должностным лицам» [277] Доклад МКЮ. 2010. С. 6–8.
.
Тотальный контроль Кремля за назначениями и карьерами судей, его постоянное давление на суды и судебную систему привели к формированию в России двух различных типов правосудия – «общего» и «специального».
В рамках «общего» правосудия, по выражению Владимира Путина, «принятие судьей и судом решения – это венец деятельности всей правоохранительной системы: МВД, либо ФСБ, либо других правоохранительных органов, следственных структур» [278] http://kremlin.ru/events/president/news/51343 .
. Это означает, что, обладая самостоятельностью в принятии решений, российские судьи практически всегда предпочитают соглашаться с позицией прокуратуры и следствия. Судьи, не моргнув глазом, удовлетворяют запросы следователей на прослушивание телефонных разговоров [279] По данным Судебного департамента, за девять лет (2007–2015 гг.) российские суды рассмотрели 4659 млн ходатайств о прослушивании телефонных разговоров и иных формах ограничений тайны переписки и переговоров, из которых было удовлетворено 97 % ( https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/16/641074-proslushku-naseleniya ). Для сравнения: в США, чье население превышает население России в 2,5 раза, количество соответствующих решений судов немногим превышает 3600 в год, то есть в 360 раз меньше в расчете на 100 тысяч человек ( http://rapsi-pravo.ru/international_news/20180629/283757944.html ).
и на заключение подозреваемых под стражу на время проведения следствия независимо от тяжести преступления; во время процессов судьи отказываются рассматривать доказательства защиты, допрашивать представленных защитой свидетелей или рассматривать в качестве доказательств защиты видео- и аудиозаписи. Поэтому слово «невиновен» в российских судах звучит менее чем в одном приговоре из ста, а более чем в двух третях судебных разбирательств обвиняемые предпочитают идти на сделку с правосудием, понимая бессмысленность защиты и признавая вину даже при отсутствии доказательств в надежде на смягчение наказания [280] При этом практика показывает, что реального смягчения наказания для тех, кто идет на сделку со следствием, не следует.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу