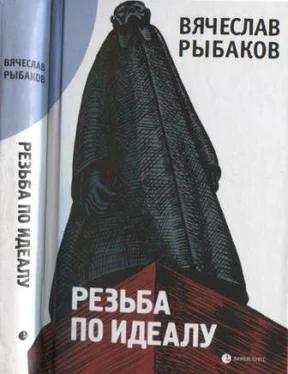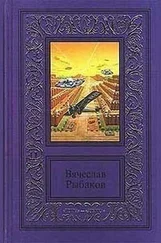«Бедняга Маркс! Твоё наследство / Попало в русскую купель, / Где цель оправдывает средства, / А средства обо…рали цель…» Знание подобных максим и признание их истинными, неоспоримыми, как «дважды два четыре», делало человека рукопожатым, служило пропуском в интеллигентную среду. Кто с недоумением кривился, услышав такое, сразу становился чужаком.
Хотя ведь вовсе не большевики, а чистокровный европеец Макиавелли за несколько веков до кровавых упырей писал: «Когда на весы положено спасение родины, его не перевесят никакие соображения справедливости или несправедливости, милосердия или жестокости, похвального или позорного…» Или: «О совести мы не можем вспоминать, ведь кому, как нам, угрожают голод и заточение, тот не может и не должен бояться ада». Так что с претензиями насчёт средств — это не к Сталину. Просто у хлипких итальянских герцогов, для которых Макиавелли варил свои рецепты, не получилось, а у России, Макиавелли, в общем-то, не читавшей, — многократно до последнего времени получалось. Чего ей ни один европейски образованный интеллигент простить не может в принципе.
А вот, кстати, Робеспьер, за которого во Франции и до сих никому не приходит в голову каяться: «Революционное правление опирается в своих действиях на священнейший закон общественного спасения и на самое бесспорное из всех оснований — необходимость».
Что же касается целей…
За две с половиной тысячи лет европейская цивилизация породила мощный корпус утопических произведений. Но для демонстрации основных тенденций и контрастов достаточно, пожалуй, будет опереться лишь на три фундаментальных труда: «Государство» Платона (IV в. до н. э.), «Утопию» Томаса Мора (1516 г.) и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы (1602 г.).
Неверно думать, разумеется, будто роль утопий исчерпывается тем, что некие не от мира сего мечтатели выдумывают некие модели, записывают их в качестве текстов, а потом люди, читая эти тексты, либо заражаются чужими мечтаниями и начинают претворять их в жизнь, либо, напротив, отворачиваются от них со смешком или гадливостью, и утопия остаётся втуне, единственно в качестве материала для размышлений будущих культурологов.
На самом деле в утопиях культура осознаёт, о чём она мечтает.
Однако сама мечта начинает вызревать и ощущаться куда раньше своей текстуальной фиксации. Она — неизбежный эмоциональный ответ нате или иные особенно раздражающие элементы социальной реальности, непроизвольный порыв к их ликвидации. И, как всякая мечта, мечта об улучшенном мире представляется естественной и заманчивой для того, кто мечтает, и при том вполне может выглядеть нелепо, а то и чудовищно в глазах тех, кто мечтает о чём-то ином или не мечтает вовсе.
Утопия — предельное выражение, квинтэссенция определённых тенденций данной, и только данной культуры. И если мечта укореняется достаточно прочно, пропитывает культуру достаточно долго, раньше или позже она реализуется, хотя, как правило, отнюдь не буквально.
Например, европейская цивилизация едва ли не с рождения больна идеей изъятия детей из семей и передачи их специалистам, профессионалам, которые, как не раз и не два постулировалось, сумеют воспитать куда лучших граждан, чем это делают малообразованные, эгоистичные, несведущие в тонкостях психологии и хрупких детских душ, обуреваемые собственными низменными заботами и страстями родители. Эта идея варьировалась в том или ином виде на протяжении тысячелетий самыми разными мечтателями, от древних греков до советских фантастов.
Именно эта давняя навязчивая идея прорвалась в современную европейскую реальность в виде ювенальной юстиции.
Поправка на явь сказалась в том, что отбирать у ВСЕХ родителей ВСЕХ детей оказалось бы слишком бессмысленным и, главное, слишком накладным. Современное государство не любит неприбыльных телодвижений. Но оно зарезервировало за собой право по первому сигналу, при первой же сколь угодно малозначительной или даже просто иллюзорной, надуманной, одной лишь идеологией (а то и политикой) обусловленной возможности вторгаться в жизнь семьи и само судить, кому, когда и на каких условиях передать конфискованного у родителей ребёнка. Не тверди многие поколения мечтателей и реформаторов о том, что государству лучше знать, как воспитывать детей, идея эта никогда не нашла бы политического воплощения.
Или другой пример.
При всём уважении к социалистическим грёзам, при всём понимании неизбежности и оправданности их возникновения трудно вообразить более бесчеловечные и деспотические общественные системы, чем описаны, например, у Мора или Кампанеллы. Ни в какое сравнение с ними не идут поздние антиутопии Замятина, Оруэлла или Хаксли. Миров страшнее, чем те, что люди Ренессанса от всей души предлагали человечеству в качестве идеальных, людская фантазия, пожалуй, не создала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу