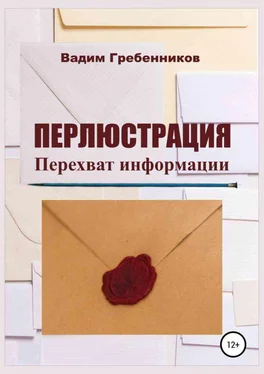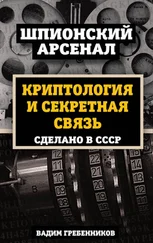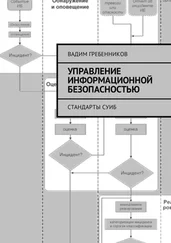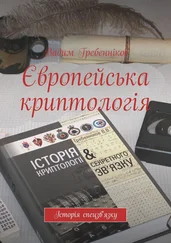Практика перлюстрации продолжалась и в правление Павла I (1796–1801). Так, в 1796 году по инициативе литовского губернатора генерал-фельдмаршала Н.В. Репнина тайные экспедиции были организованы при пограничных почтовых конторах в Бресте, Гродно, Радзивилове (город на границе с Австрией), а также в Вильно.
Зато «яко уже не нужные» были ликвидированы службы перлюстрации в Минске и Изяславле. В декабре 1800 года по распоряжению Павла I опытный чиновник Ф.А. Ган был направлен в местечко Паланген (Паланга) под предлогом наблюдения за «окуриванием приходящих из-за границы почт, эстафет и курьерских депеш», а на деле «для секретного наблюдения за всей идущей из Западной Европы корреспонденцией».
Таким образом, к началу XIX века служба перлюстрации существовала в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Бресте, Вильно, Гродно, Палангене (Паланге) и Радзивилове — в 8 населенных пунктах империи. Выписки и копии писем при Екатерине II и Павле I представлялись на высочайшее рассмотрение директором Санкт-Петербургского почтамта.
Предварительный просмотр иностранных газет и журналов также был продолжен Павлом I. И февраля 1798 года появился указ «Об учреждении цензуры при Радзивиловской таможне» (она открылась 8 февраля 1799 года), а 4 апреля 1799 года был высочайше утвержден доклад Сената о штатах Радзивиловской цензуры.
17 мая 1798 года был подписан указ «О устроении цензуры при всех портах, о не пропуске без позволения оной привозных книг и о наказании за непредставление Цензорам полученных книг или иных периодических сочинений и за пропуск вредных книг». Один из пунктов указа гласил, что относительно почтамтов обеих столиц, как и относительно пограничных почтамтов, даны предписания князю А.А. Безбородко.
Правда, во изменение этого указом от 16 апреля 1799 года цензура и штат Почтового департамента были учреждены лишь в портах Кронштадта, Ревеля, Выборга, Фридрихсгама (Хамины) и Архангельска. Ввоз книг, газет и других сочинений из-за рубежа в другие порты был запрещен. Для чтения и рассмотрения иностранных газет и других периодических сочинений в Петербургском и Московском почтамтах вводились должности 2-х цензоров в каждом; в Малороссийском, Литовском, Тамбовском и Казанском почтамтах — по 1-му.
30 июня 1799 года санкт-петербургский гражданский цензор Ф.О. Туманский просил Ф.В. Ростопчина доставить в цензуру реестр всех изданий, выписываемых через почтамты, а также передавать в цензуру один экземпляр из удержанных на почте.
Когда в июне 1799 года И.Б. Пестель с поста Санкт-Петербургского почт-директора был назначен на должность президента Главного почтового правления, то указ Павла I предписал передать «секретную и газетную экспедиции» в ведение нового почт-директора Н.П. Калинина.
Иногда почтовое начальство сталкивалось со стремлением местных властей проводить перлюстрацию по своему усмотрению. Так, 19 ноября 1800 года новгородский гражданский губернатор С.Ф. Обольянинов, получив предписание генерал-прокурора А.А. Беклешева об осмотре корреспонденции «отставных лиц и исключенных со службы», а также староверов, потребовал от Новгородской почтовой конторы «пакеты, приносимые людьми… подозрительными…или 1) осматривать и если найдет что-либо подозрительное, доставлять в СПб. почтамт; 2) посылать в другие почтамты, куда идут письма, особые рапорты».
2.3. «Тайные экспедиции» Александра I
В ночь на 12 марта 1801 года Павел I был убит, и на престол взошел Александр I. Началась «либеральная весна», которая коснулась и тайного вскрытия почтовой корреспонденции. В результате официально перлюстрация сохранялась лишь для дипломатической и частной зарубежной переписки.
Так, 12 апреля главный директор почт Д.П. Трощинский сообщил московскому почт-директору Ф.П. Ключареву, чтобы согласно распоряжению нового императора «внутренняя корреспонденция, производимая между собою частными людьми и особенно обитателями Империи здешней была отнюдь неприкосновенна и изъята от всякого осмотра и открытия, а что лежит до внешней переписки, в перлюстрации оной поступать по прежним предписаниям и правилам без отмены».
Несмотря на либеральные мечтания Александра I, государственные интересы самодержавной монархии требовали как можно более полных сведений о настроениях самых различных групп населения. Во-первых, это касалось «фрондирующих» чиновников и даже членов императорской семьи.
Память о дворцовом перевороте 11–12 марта 1801 года не могла исчезнуть бесследно из сознания молодого императора. Дело было не только в боязни повторения подобного, но и в стремлении не допустить утечки за границу какой-либо нежелательной информации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу