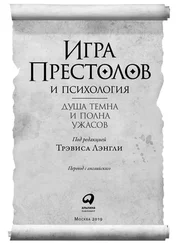Сконструированное Мартином альтернативное Средневековье одновременно похоже и не похоже на Средневековье историческое, но явные параллели с войной Алой и Белой розы (Старки и Ланнистеры вместо Йорков и Ланкастеров) как на аркане тянут за собой и другие аналогии с англо-саксонскими и прочими средневековыми реалиями и атрибутами. В частности, с фигурой бастарда. Самым, пожалуй, знаменитым бастардом в истории Англии был Вильгельм Завоеватель. Происхождение, конечно, не выбирают, но тем более примечательно, что легендарнейший король острова — король Артур — тоже бастард, коему для подтверждения прав на престол пришлось вытаскивать тот самый меч из камня — иначе подведомственное население отказывалось верить в его наследственные и, что самое важное, нравственные права на престол. Ведь истинный король, тот, про которого в толкиеновской саге «Властелин колец» напевали «В руках государя — чудесная сила», обладает, помимо подразумеваемой доблести, прежде всего джентельменским набором добродетелей — благородством, снисходительностью к слабым, милосердием.
Казалось бы, что общего у короля Артура, отважного Роланда из «Песни о Роланде» и великолепных рыцарских поэм, рыцаря-странника Арагорна из мира Средиземья и принца Хэла шекспировских исторических хроник — будущего Генриха V, чьи монологи английские школьники учат наизусть, как мы в свое время и с теми же целями — лермонтовское «Бородино»? Упаси Боже, бастарды — только первые двое, но все эти герои — народного ли эпоса, литературных ли произведений — все они испытали на себе судьбу простолюдина, прозябали в безвестности, как будто специально прятались до времени от собственного блестящего предназначения. Заодно не умолчим и о следующей немаловажной подробности: троих названных королей объединяет и некое не подчеркиваемое, но и не так, чтобы совсем замалчиваемое, сходство с новозаветным истинным Царем земли и неба, у Которого тоже были определенные проблемы с происхождением, Который долго скрывал Себя от мира, а для подтверждения Своих прав на царство сотворил много чудесного, но более всего отличался от правителей земных любовью и жертвенностью.
Конечно, для отечественного сознания непривычно, если не прямо дико — Христос с мечом? В короне? Во главе войска на коне? Хотя в православной средневековой иконографии встречались изображения «Спаса Ярое Око», «Спаса в Силах», но русская литература категорически предпочла Христу-Царю — Страдающего Христа. В отличие от английской литературной традиции, где, не потеряв смиренности, образ Христа приобрел и вполне «рыцарские» (в нашем понимании) черты.
Да, но «Игра престолов»-то тут причем? По циклу «Песнь льда и пламени» об уже упомянутом выше бастарде Джоне Сноу мы знаем как раз ровно противоположное: он не рыцарь и вообще «не бог, не царь и не герой», а какой-то там стюард Ночного дозора. А вот здесь и начинается самое любопытное. Да, поначалу с Дозором и черными братьями у него не заладилось: конфликты на почве самомнения и самолюбия, всяческие очень чувствительные для гордости испытания, помноженные на заносчивую юношескую обиду на судьбу… Но если вспомнить самый первый романный эпизод с участием Джона, которого мы видим глазами младшего брата, Брана, то в этой символической сцене (что прежде других явилась Мартину и поманила в мир Семи королевств) каждый из воспитанников Нэда Старка ведет себя соответственно собственному характеру и пониманию мира. Теон Грейджой с улыбкой пинает голову казненного дезертира, сам Бран стремится выглядеть достойно для своих лет, а Джон находит способ уговорить лорда Эддарда пощадить лютоволчат, при этом жертвуя своими правами на обладание живым гербом дома Старков. Оба эти действия: спасение слабого и самопожертвование, как сейчас модно выражаться, становятся для фактически еще подростка жизненной стратегией. Хотя, возможно, и несколько вынужденно, поскольку никаких других продуктивных стратегий Джоново чувство долга, чести, а также его нешуточные амбиции, с одной стороны, и темное происхождение и свара в Королевской гавани, с другой, ему не оставляют.
Братья Ночного дозора, рекруты, сир Аллисер Торне, лорд-командующий как будто бы сговорились испытывать ладно бы только воинскую сноровку, но душевные силы, терпение и прочие человеческие качества Джона Сноу. Они последовательно (и весьма жесткими методами) ведут его от формулы «они ненавидят меня, потому что я лучше их» (чистая правда, Джон, но правда избалованного инфанта) — к формуле «какими бы они ни были, они — мои братья» (недурной лайфхак для адаптации во враждебной среде, позволяющий все-таки построить отношения с сослуживцами). Можно, конечно, вспомнить целый ряд евангельских эпизодов, в которых Христос пьет и трапезничает с грешниками и проститутками, мздоимцами (мытарями), убийцами, исцеляет больных, снисходя буквально «во ад» — к прокаженным, параличным, нищим и прочим отчаянным маргиналам. Вызывая при этом едва ли не шок в респектабельной религиозной публике. Можно заглянуть в шекспировскую хронику «Генрих IV» (обе части) и насладиться тем, как наследный принц английского престола задорно позорит титул, отца-короля и весь двор, обретаясь в кабаке мистрисс Куикли в компании толстяка, вруна и выпивохи Фальстафа, а также вовсе не благородных девиц и юношей подозрительного поведения. С целью практического познания человеческой натуры и собственного народа — и не гнушаясь никакими из предъявляемых многообразных проявлений (а по мере сил даже ограждая Фальстафа от оных).
Читать дальше
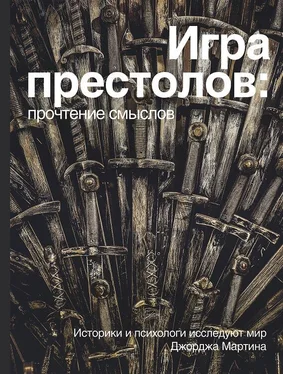
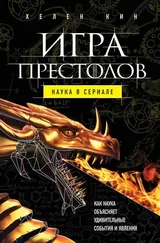
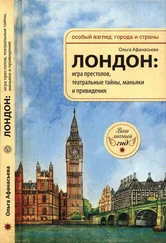
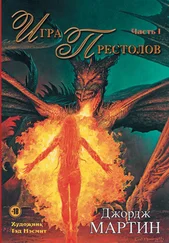
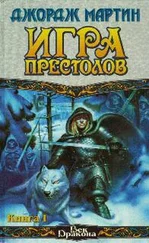
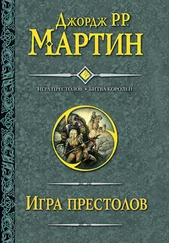
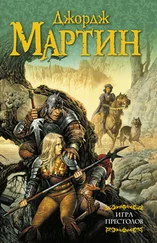
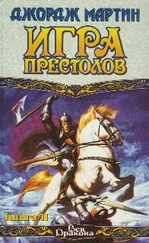
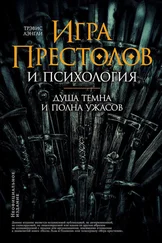

![Андрей Фурсов - Мир «Игры престолов» — это мир подлости, разврата и жестоких пыток [«Игра престолов» как проект будущего]](/books/414278/andrej-fursov-mir-igry-prestolov-eto-mir-podlo-thumb.webp)