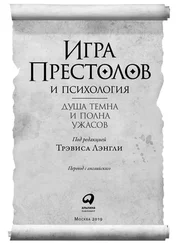И связано это с двойными критериями добра и зла, точнее, с их двойной трактовкой. Является ли освобождение рабов добром? С точки зрения рабов — да, а с точки зрения их хозяев — отнюдь. Да и что такое свобода для тех, кто не привык ею пользоваться, кто не привык быть свободным? С одной стороны, свобода — это действительно благо, ибо каждый человек рождается свободным. С другой стороны, это вызов для тех, кто вырос в рабстве, то есть в ситуации, где всё решает хозяин. Оказывается, свобода сопряжена и с ответственностью за свои поступки и за свою жизнь. А к этому готовы далеко не все. Именно поэтому бывшие рабы Астапора (в книге) немедленно сами становятся господами, а бывших хозяев низводят на уровень рабов.
Посол Кварта убеждает Дейнерис: «Если все люди будут вынуждены рыться в грязи, добывая пищу, кто из них найдёт время взглянуть на звёзды? Если каждому придётся строить для себя хижину, кто будет воздвигать храмы во славу богов? Одни должны быть порабощены для того, чтобы другие стали великими». Дейнерис сложно найти аргументы против этой позиции — поскольку квартиец играет с фактами, а она, хотя и чувствует ложь, но не может возразить.
Этот спор насчитывает не одно столетие и базируется на рабовладении как системе общественных отношений, где раб — не человек, но объект товарно-денежного обмена. Ну а самое главное — это вполне современная аргументация об особом статусе и особом пути великих городов, чья культура испокон веков держалась на рабовладении. В этой трактовке Дейнерис предстаёт как разрушительница чужого общества, ничего не дающая взамен. На самом же деле она — носитель ценностей будущего, которым ещё только предстоит закрепиться в Эссосе. Смена общественных систем и экономических формаций редко обходится без периода хаоса, за которым следует утверждение нового космоса. «А я — то бедствие, которое превратит работорговцев обратно в людей», — поклялась себе Дейнерис.
Историческая правда на стороне Дейнерис, но сиюминутная победа в споре остаётся за квартийцем. Отсюда и череда компромиссов, на которые она идёт в тщетной попытке поправить положение дел: разрешает работорговлю за стенами города, открывает бойцовые ямы. Шаг за шагом она предаёт собственные принципы. И кульминация этого — замужество Дейнерис.
Жрица из Миэрина убеждает её: «Мы древний народ, и предки значат для нас очень много. Если вы вступите в брак с Гиздаром, отец вашего сына будет гарпией, мать — драконом. Он исполнит пророчество, и ваши враги растают, как снег по весне». В обещании заключена двойная ложь. Во-первых, брак между гарпией и драконом невозможен по той причине, что именно драконы Древней Валирии завоевали Империю Тиса. Так что за словами жрицы скрывается не что иное как жажда реванша. А во-вторых, Дейнерис уже попадала в плен пророчества о себе у дотракийцев — пророчества, которое не сбылось.
Впрочем, об опасности пророчеств нужно поговорить отдельно.
Первое из них Дейнерис выслушивает о себе и о своём будущем сыне от дотракийцев: «Скачет он, быстрый как ветер, а за конём его кхаласар покрывает землю; мужам сим нет числа, и ракхи блестят в их ладонях подобно лезвиям меч-травы. Свирепый, как буря, будет этот принц. Враги его будут трепетать перед ним, и жёны их возрыдают кровавыми слезами и в скорби раздерут свою плоть. Колокольчики в его волосах будут петь о его приближении, и молочные люди в своих каменных шатрах будут страшиться одного только его имени. — Старуха затрепетала и поглядела на Дени словно бы в испуге. — Принц едет, и он будет тем жеребцом, который покроет весь мир».
Из этого отрывка становится понятным, что дотракийцы есть воплощение детской архаики и очень ранних проявлений религиозных воззрений. В частности, все помнят, что они поклоняются Великому Жеребцу, но вообще-то они поклоняются ещё и Горе. И, кстати, сразу появляется один интересный вопрос: этот Великий Жеребец — он вообще имеет под собой какую-то известную нам религию? Или же — теперь внимание! — это один из примеров такой джорджмартиновской либо ловушки, либо притчи? Возможно, само наличие образа Верховного Жеребца — просто попытка свести всех языческих богов к одному у дотракийцев, и тогда это будет напоминать своеобразный монотеизм. А почему бы и нет? В мире, где существуют все эти племена, будет у них специфический единый бог.
Предложим и другое объяснение. Единственное, что я не уточнила пока, читал ли Мартин Клайва Льюиса и, если да, как он к нему относится. Потому что, как мы помним, у Льюиса в самых разных книгах — от «Хроник Нарнии» до «Космической трилогии» и романа «Пока мы лиц не обрели» — раз за разом встречается одна очень важная мысль, что каждый народ получает истину через миф. И тогда мы можем предположить, что в «Игре престолов» речь идёт о таком единобожии, которое дотракийцам, наивным, но храбрым племенам, доступно только в этой форме. Интересный вопрос, но на него нет однозначного ответа.
Читать дальше
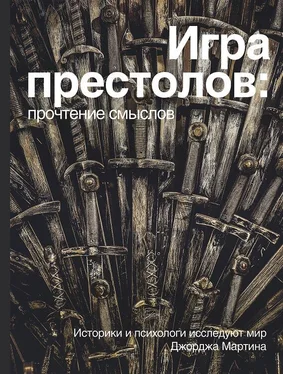
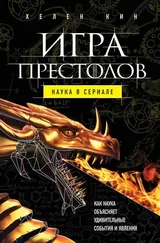
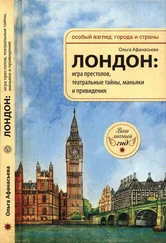
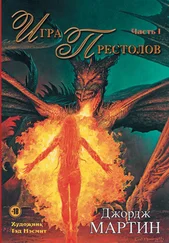
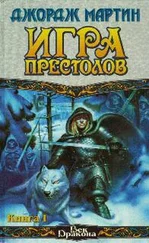
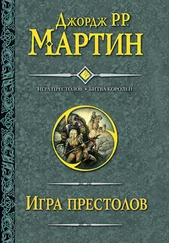
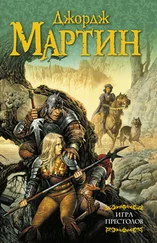
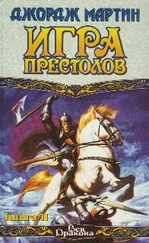
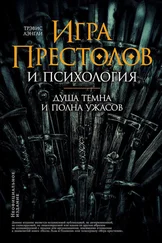

![Андрей Фурсов - Мир «Игры престолов» — это мир подлости, разврата и жестоких пыток [«Игра престолов» как проект будущего]](/books/414278/andrej-fursov-mir-igry-prestolov-eto-mir-podlo-thumb.webp)