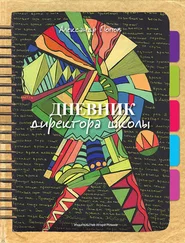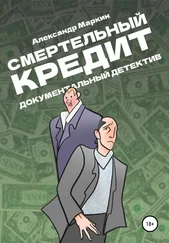15 марта
Размышлял об иллюзиях .
Вспомнил про лекции Жижека в Веймаре. На первую лекцию народ просто ломился. Жижек оказался толстым дядькой с немытыми волосами. (Говорят, он просто плохо себя чувствовал.) Он прекрасно говорит по-немецки, но лекцию читал на плохом английском. Каждое предложение начинал со слов let's imagine … и what if … Что само по себе, конечно, весьма научно, и, как я понимаю, связано с Лаканом . На вторую лекцию пришли, кажется, только организаторы лекций Жижека в Веймаре.
Вывод: Жижека лучше читать, чем слушать.
К ночи приехал Дима. Пили вино. Дима рассказывал про свою жизнь. Я слушал. Ему очень трудно с женщинами, а (гетеросексуальную) девственность он терял целых два раза, один раз даже с проституткой, но, кажется, так и не потерял.
Уложил его спать на диване. Он долго ворочался и тяжело вздыхал.
17 марта
Любой текст видится мне, как сеть референциальных ( ? ) кодов.
18 марта
Бессонница.
Выгляжу так плохо, что в метро мне уступили место.
20 марта
Пишу комментарии к Дёблину . Взял почитать автореферат одной новейшей диссертации про Берлин , Александрплац , думал позаимствовать оттуда каких-нибудь мыслей. Раскрыл. Анизохронии атипичны для нарративной стратегии автора, время повествования удлиняется лишь за счет метадиегитических вставок <���…> профанический нарратор репрезентирует план ординарного сознания (т. е. фрагменты вторжения гомодиегитеческого нарратора) . Ах!
22 марта
В каком-то письме Гёте говорит об умершем Шиллере , что тот словно бы жив и каждый раз предстает перед его внутренним взором, как лучи заходящего солнца, которые постепенно исчезают по мере того, как солнце скрывается за горизонт.
Беньямин пишет: «Многосторонние связи между людьми в большом городе проявляются в активности глаз… До появления в XIX веке омнибусов, железных дорог, трамваев, люди были не в состоянии простаивать долгие минуты или даже часы, вынужденные разглядывать друг друга и не произнося при этом ни слова».
Читал, стоя на платформе в метро.
«Тупость часто бывает убранством красоты. Благодаря ей глаза становятся грустными и прозрачными, как чернота болота или как маслянистая гладь тропических морей». ( Бодлер )
23 марта
Сегодня я много размышлял о поверхностности и поверхностях . Мне отчего-то кажется, что быть поверхностным честнее, чем быть глубоким . Не только потому, что через поверхность, если стараться, можно проникнуть в глубину. Просто поверхности — все, что у нас есть. Поверхности связывают нас. Взгляд, отношения всегда скользят по поверхностям. Между людьми не может быть никаких глубинных связей. Потом: глубина разрушает все единства. Глубина разлагает. (Трупы опускают в могилы, в землю, в глубину, и они быстрей распадаются.)
О людях надо судить по внешности.
Наблюдая за людьми в отражениях — например, на стекле в вагоне метро, — я получаю большое удовольствие.
24 марта
В метро. Ехал от родителей. В метро, прямо напротив меня сел крайне симпатичный парень. И я не знал, куда мне спрятать свой похотливый взгляд.
Порой получасовая поездка становится изощреннейшей пыткой, потому что хочется с кем-нибудь познакомиться, а не знаешь, какова будет реакция другого человека, не знаешь, как это сделать и проч. Банально и печально: ежедневно имеешь тысячи возможностей изменить что-нибудь в своей жизни или ничего не менять, но надо сделать тот или иной выбор, и выбирать чрезвычайно сложно.
25 марта
Пожалуй, Вейнингер прав: «Женщина есть ничто. Мужчина не может и не должен любить ничто. Только ничто способно полюбить ничто».
26 марта
Бодлер утешает: «Чем больше человек просвещается в искусстве, тем меньше в нем похоти». Значит, книги вполне могут стать эрзацом секса.
Nocturna versate manu, versate diuma.
В Москве сегодня была гроза.
27 марта
«Ученый вел уединенный образ жизни. Совершать многочисленные путешествия, походы в горы, ежедневные долгие прогулки его толкала тревога, которая охватывает домоседа, недовольного собой, пытающегося убежать от себя. У него было много знакомых, друзей, но не было семьи. Он любил общество женщин и страшно боялся их. Он льстил себе ролью всеобщего наперсника, «платонического Дон-Жуана» и мучился от комплекса сексуальной неполноценности. Основным занятием Амьеля было чтение — торопливое, жадное, бессистемное. Каждый день он просматривал полтора десятка газет и журналов, пять-шесть научных сочинений, стихи, романы. Уже после тридцати лет он стал сетовать на память, жаловаться, что от массы прочитанных второпях книг ничего не остается. Амьель был прекрасным собеседником. Статьи он писал с огромным напряжением, жаловался, что ему трудно организовывать материал. Желая быть всем: писателем, моралистом, психологом, эстетиком, философом, богословом, он был никем: читателем, интеллигентом, сверхквалифицированным потребителем культуры, тем, кто своим существом обеспечивает ее высокий уровень — и страдает от ощущения собственной ненужности. Жанр дневника — ловушка для автора. Многие авторы дневников жалуются на нехватку любви, ощущение неприкаянности, ненужности. Они сироты — в физическом и духовном смысле. Уход в себя — это уход от мира. Автор дневника управляется словами, а не вещами. Окружающие его физические объекты — лишь символы, знаки. И это становится причиной духовного кризиса: всякое понятие при логическом анализе переходит в свою противоположность. Личный дневник стремится уничтожить все другие произведения, вобрать их в себя. Амьель описывает свой дневник как наркотик, иссушающий душу, превращающий в сомнамбулу, переносящий из мира людей в мир грез. Дневник — это овеществленная память, он позволяет автору увидеть прежнего себя, сохраняет его образ для читателя. И он же разрушает естественные механизмы памяти, навязывает автору присутствие человека, которым он давно уже перестал быть. Дневник препятствует ретроспективному самоосмыслению, ибо, чтобы вспомнить, надо забывать. Дневник мешает нормальной эволюции характера. Нерешительность приводит к духовной всеядности, открытости к чужим влияниям, рождает созерцательное отношение к культуре, миру. Наблюдающий за собой делается эгоистом, ему не нужен другой; человеческие чувства гибнут. Дневник, отнимающий большую часть времени, заменяет жену, исповедника. Чем сильней очеловечивается дневник, тем больше деперсонализируется автор. Личный дневник рождается из комплекса неполноценности».
Читать дальше