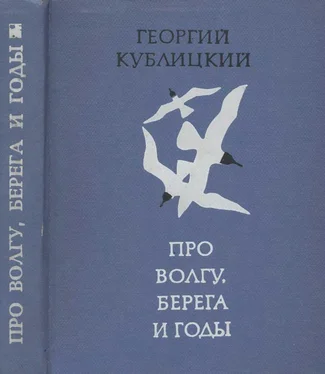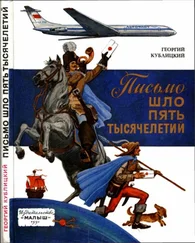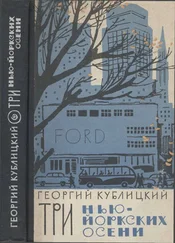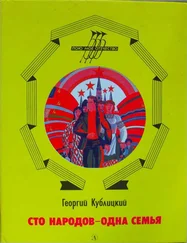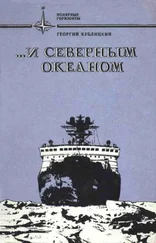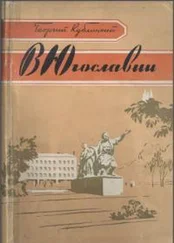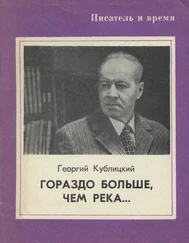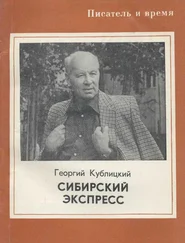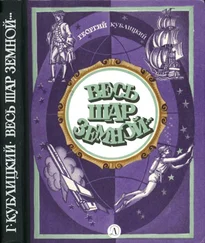Тут же, в музее соседнего с Волгоградом большого города Волжского, большой портрет хозяина стола, кресла и телефона. Под портретом — две даты: 1900–1958.
Федор Георгиевич Логинов умер уже после того, как гидростанция была почти достроена. Мне кажется теперь, что при всей деловитости, даже суровости, был он в душе мечтателем и романтиком. Увлекался интересными, умными, смелыми людьми, новыми идеями, А если идея до конца захватывала его, осуществлял ее с завидной волей и упорством.
Такой его идеей был Волжский. Город без окраин. Город без времянок. Город, удобный для жизни. Город не "потом", а сразу, одновременно со стройкой гидростанции.
В музее есть записная книжка Логинова — обыкновенная тетрадка со скрепкой, плохая желтая бумага. Именно такую он и вынимал обычно из карманов своего просторного полотняного пиджака во время объездов стройки.
В книжке — конспект его выступления на партийной конференции: "Коллектив Сталинградгидростроя пришел со значительными (слово "значительными" — зачеркнуто), с некоторыми достижениями". На этой конференции Логинову изрядно досталось за "недостаточно оперативное использование техники" (часть самосвалов по его распоряжению возила землю на стройку стадиона в будущем городе).
Музей в Волжском — на зеленой улице с фонтанами. Она идет ко Дворцу культуры.
Дворец, как и стадион имени Ф. Г. Логинова, это уже вчерашний центр того города без окраин, который был достроен к пуску гидростанции. Нынешний, новый центр, переместился на площадь Свердлова, туда, где в день торжественного открытия Дворца культуры простиралась пыльная, скучная степь…
* * *
Это было в конце февраля 1952 года, в горячечную пору, когда на стройке Волго-Дона сон и отдых считались едва не преступлением. Явно не хватало нескольких месяцев, чтобы привести все в божеский вид, а об этих месяцах не могло быть и речи: канал решили открыть в середине лета.
Сколько я ни заглядывал до той поры в Красноармейский район гидросооружений, строивший шлюзы у волжского входа в канал, мне никогда не удавалось застать его начальника: "только что был", "на объектах", "вызвало начальство". И на этот раз направился к двери просто так, для порядка.
— Товарищ Александров здесь, только он очень занят.
— Но я на минуту.
Контора начальника района помещалась в неказистом домике, хотя новый поселок поблизости уже достраивался. Сейф, карты, снимок закладки шлюза, изрядно обшарпанный стол.
— Странная идея, — удивился Александр Петрович, услышав, что я собираюсь пешком пройти всю трассу подну. — Сто один километр — не расстояние, конечно, но цель-то в чем?
Я стал говорить, что такое путешествие через некоторое время не сможет повторить уже решительно никто.
— Странная идея, — повторил Александров. — Допустим, что повторить его никто не сможет. Ну и что?
"Человек без романтики", — мысленно вынес я приговор. Хмурый, недовольный чем-то.
— Видите ли, я хотел бы подробно рассказать в своей книге о новой трассе. Сейчас, до прихода воды, можно не спеша осмотреть все сооружения.
— Вот это другое дело. Тут я вам помощник.
И без промедления подвел меня к схеме.
— До конторы вы, полагаю, по руслу уже прошли, так? Откосы видели? Верхний пояс мы не мостили еще, но пассажир увидит его замощенным. На этом участке канала строится причальный пункт. Следующий участок — плавные кривые…
…Двенадцать лет спустя, в Асуане, накануне перекрытия Нила, главный советский эксперт строительства Высотной плотины при нашей встрече вспомнил, как я путешествовал по дну канала, но добавил, что ему почему-то так и не пришлось прочесть описание этого увлекательного путешествия. Я сознался Александру Петровичу, что впечатления от плавных кривых и стоявших еще на сухом месте причальных пунктов, которые остались у меня после пешего похода, могли пригодиться лишь для написания путеводителя. Канал без воды был скучен, некрасив, мертв.
Зато как памятен мне первый рейс — не многократно описанный рейс волжского флагмана с именитыми гостями, а пробный, служебный, по только что наполненному Волго-Дону! Это был рейс теплохода "Сергей Киров", и вел его капитан Андрей Иванович Бело-дворцев, представитель старой капитанской гвардии. "Командовал парадом" видный гидротехник Пантелей Васильевич Черевко, возглавлявший придирчивую комиссию.
Судно пошло к триумфальной входной арке. Там еще висели кое-где строительные леса. Сотни молотков звонко цокали по камню. На страшной высоте мелькали белые халаты лепщиков. Вокруг арки в степи сажали деревья, привезенные на грузовиках вместе с землей.
Читать дальше