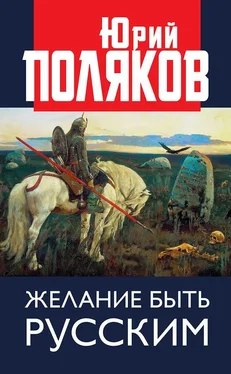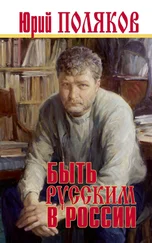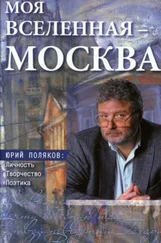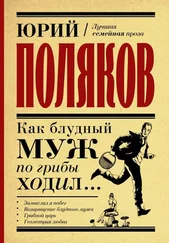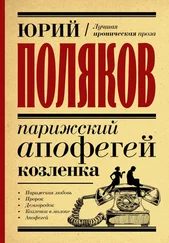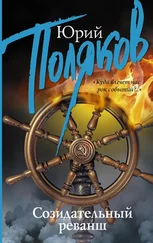Продолжу мысль видного государственного деятеля. Если сверхзадача нашей федерации обеспечить развитие и процветание каждого, «сущего в ней языка», то, полагаю, и мы, те, кто «от корня русского», в это число тоже входим. Но пройдите по любому областному центру, не говоря уже о Москве и Питере, много ли вы найдете вывесок: «Дом русского народного творчества», «Центр традиционной русской культуры», курсы русской кулинарии «Демьянова уха», школа русской песни и пляски «Семеновна», «Беседа ревнителей русского языка», радиостанция «Русский голос», газета «Русский вестник»? Не найдете. Более того, недавно на заседании Общественного совета Министерства культуры мы обсуждали конфликт вокруг знаменитого музыкального коллектива «Баян». Оказалось, в целях повышения творческого потенциала его решили переподчинить, реорганизовать и заодно… переименовать. Зачем? Кому мешало знаковое для каждого образованного человека название «Баян»? Внятно ответить никто не смог. Но те, кто взрывал в 1920-30 годы храмы, тоже потом несли какую-то околесицу. Каганович, тот на все вопросы мрачно повторял: «Проезду мешали…» Какому проезду мешал «Баян»? Или название слишком русское?
А скажите, какие структуры или органы в нашем Отечестве отвечают или хотя бы контролируют на общефедеральном уровне проблемы русских, как этноса, состояние его культуры, языка, демографии, уровня жизни. Кто отслеживает миграцию, изменение этнического состава населения, сохранность русских городов и сел, склонных к исчезновению? Не будем забывать: русские перенесли в ХХ веке послереволюционный террор, гражданскую войну, массовый голод, жуткие социально-экономические эксперименты, депортации, потеряли миллионы в войнах, в довершение после развала СССР оказались еще и разделенным народом. При очевидной депопуляции и склонности к ассимиляции, объясняемой историко-культурными особенностями, должно вести речь о системном кризисе государствообразующего народа России, на что весьма прозрачно намекнул Абдулатипов. Повальное пьянство, особенно в деревне, – это лишь один из признаков неблагополучия: «пошла по жилам чарочка – и рассмеялась добрая крестьянская душа…»
Так покажите мне тот «русский приказ» в украсно-украшенных теремах царя-батюшки, куда я, заботник-челобитник, могу принести, взыскуя справедливости, скорби и заботы о моем бедствующем племени? Нет, такого «приказа». Нигде. Ну, хоть бы какой подотдельчик в Администрации президента или в Правительстве завели. Даже у коммунистов такой отдел имелся, а уже такие интернационалисты были – святых выноси. Наши центральные властные структуры принципиально надэтничны, и это, по сути, правильно. Федерация есть федерация. Но точно так же ведут себя губернские органы власти. Они-то почему? Ну, во-первых, они копируют Москву, во-вторых, правящий слой там традиционно состоит людей со стертым или слишком глубоко спрятанным национальным сознанием: так работают карьерные лифты и фильтры. Эту строевую «без-этничность» прививают выдвиженцам в самом начале, и она особенно бросается в глаза на встречах со слушателями Академии государственной службы, особенно с тех пор, как ее возглавил господин Мау.
В-третьих, в любом городе бдят СМИ и активисты фондов, тщательно отслеживающие проявления великодержавности. Помню, как-то на последискуссионном фуршете рядом со мной закусывал активист московского антифашистского комитета Крошечкин, если не ошибаюсь. Выпив несколько рюмок, он глянул на меня с карательной усмешкой и молвил: «А мы к вам, господин Поляков, давно присматриваемся…» «С чего бы это?» «Уж очень вы любите слово «русский». Нехорошо. Подумайте об этом!» Я не сделал выводов из предостережения, а многие мои коллеги-писатели сделали и не нарадуются, ведь один из руководителей «Роспечати» мне так и заявил: пока он исполняет эту должность, никаких почвенников на книжных ярмарках вообще не будет! Кого называют почвенниками в современной отечественной литературе, общеизвестно. Хорошо, что он не руководил этим направлением в XIX веке, а то бы не видать нам ни Достоевского, ни Писемского, ни Лескова. Однажды во Франкфурте после выступления официальной делегации российских литераторов, в которую я, конечно, не входил, кто-то из немецких русистов меня тихо спросил:
– А что, разве русские писатели к нам больше не ездят?
– С чего вы взяли, что эти-то не русские?
– Русские свою страну так хают!
Мне кажется, стертость национального самосознания становится для нас серьезной проблемой. Она ведет к снижению чувства ответственности политиков, чиновников, бизнесменов, деятелей культуры перед своим народом. Выполняя завет, оставленный Гоголем писателям, «проездиться по России», я заметил такую особенность: наши автономии, особенно их столицы (не все, но большинство) выгодно отличаются от русских губернских центров, не говоря уже о районных городах, которые запоминаются лишь красотами, оставшимися от дореволюционных купцов и почетных граждан. Национальные регионы выглядят благополучнее, ухоженнее, богаче, чем русские. Отчасти так было уже при советской власти: помню, в начале 1980-х после Молдавии я сразу поехал в калужскую глубинку – в Людиново и оторопел от контрастов. Но теперь эти отличия просто режут глаза.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу