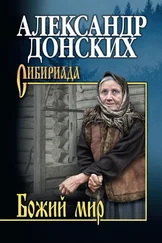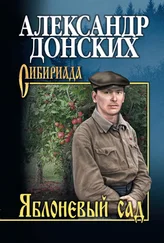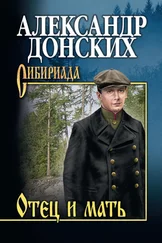За столом произносили тосты, пили самогонку (водке, которой перетравилась тьма народу, здешние крепко-накрепко не доверяют), ели большими ложками холодную, сочную чернику – любимую ягоду Валентина Григорьевича.
Мы, гости, тихохонько между собой говорили:
– Да как же они здесь живут?
– Не живут – выживают.
А они, местные учительницы, – во всех своих здравицах:
– Мы верим – заживём ещё!
– Мы верим…
– Мы верим!..
– Осенями на «Сияние России» давайте-ка приезжайте к нам. Примем, сколь ни нагрянет вас. Да и летом приезжайте. Когда хотите приезжайте – любим гостей. У нас тут всегда хорошо! Приволье, одно слово! Да и сами мы сияем в любое время года! – смеются, румяные, насмешливые, запевающие тут и там.
– Эх, где наша не пропадала!
– Ничё: живы будем – не помрём, глядишь.
– А что, и точно: сияем, девки!
* * *
Мы верим… мы сияем… – эти слова долго звенели во мне на обратном пути. Было и радостно, и грустно одновременно: побывал, увидел, прикоснулся, но и – растерялся, не принял, поник, ужаснулся даже.
Мы верим… мы сияем… – и посейчас звучит во мне, подчас вперемешку По Ангаре, по Ангаре… И эти простые русские женщины, можно, наверное, сказать такое бойкое, музыкалистое слово – бабы (уважаемое, кстати, Распутиным), чувствую я, словно бы говорили и пели за всю Россию и даже за не могущего уже произнести слова вживе Валентина Григорьевича.
И ещё раз, самому себе и близким или кому-нибудь при случае, как-нибудь ненавязчиво и тихо хочется напомнить:
– Надо уцепиться и не даваться.
Но сердце, однако, уже знает – и уцепились, и не дадимся. И праздникам непереводно бывать на наших улицах, как бы ни жилось нам. А душам – верить и сиять.
И снова, снова слышишь внутри себя – один голос:
Жизнь коротка, и чем меньше мы будем вместе, тем больше упустим счастья .
И – другой:
Уцепиться и не даваться .
И не могу сдержаться – говорю:
– Сияй, Россия! Сияй, родная!
* * *
Да, забыл сказать. Точнее, так: я думал, нужно ли? Наверное, всё же нужно. Когда мы ехали на родину Валентина Распутина из Иркутска и были на пути к Балаганску, а это где-то на полдороге от Кутулика, родины Вампилова, до Усть-Уды, неожиданно в небе увидели два креста – инверсионные следы четырёх военных самолётов. Кресты шли, будто вырастали, от земли, от самого её окоёма. Удивительно: я ни разу не видел, чтобы след от реактивного самолёта поднимался тотчас от земли. Может быть, кто-нибудь видел нечто подобное? Пересечные полосы начинались как бы из ниоткуда и обрывались как бы в никуда. То есть следы образовывали именно кресты. Правильные, выверенные кресты. Нас в салоне автомобиля сидело четверо, и если бы видел только кто-нибудь один, наверное, можно было бы сказать ему: мол, привиделось тебе, братишка. Нет, не привиделось никому из нас.
Кресты надвигались друг на друга и вскоре слились, но не в крест единый – в облако расплывчатое и горбистое. И оно, казалось, образовало распутье очень широких, теряющихся в небесной синеве дорог.
Думайте что хотите. А мне хочется думать о том, что с небес на всех нас, молчаливых и речистых, счастливых и не очень, всяких по-разному и разных по-всякому, на всю нашу землю, ухоженную и разорённую, родную нам и чужую, смотрели души Валентина Распутина и Александра Вампилова.
И снова, и снова, – как молитву:
– Сияй, Россия!
(2017, 2019)
В 2018 году С.Г. Левченко решением правления Союза писателей России было присвоено почётное общественное звание «Литературный губернатор России».
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Донских Яблоневый сад [litres] обложка книги](/books/401226/aleksandr-donskih-yablonevyj-sad-litres-cover.webp)

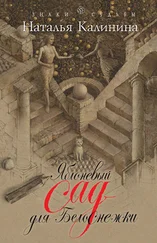

![Полли Хорват - Ночной сад [litres]](/books/400175/polli-horvat-nochnoj-sad-litres-thumb.webp)
![Александр Донских - Отец и мать [litres]](/books/415697/aleksandr-donskih-otec-i-mat-litres-thumb.webp)