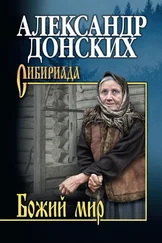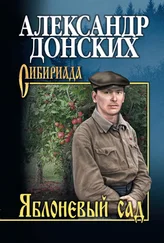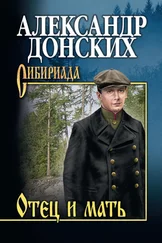«Здесь и родился… родился… родился… Распутин…. Распутин… Распутин…» – эхами пронизало душу.
– А вот тут под нами храм, – сказал другой мужчина, рукавицей расчищая со льда снег и прищуриваясь в эти неимоверные глубины, на днах которых покоятся и дома, и кладбища, и деревья, и вся жизнь населявших Аталанку людей.
«Храм… храм… храм…» – уже и сама душа зазвучала, отдавая своё эхо этим беспредельным ангарским привольям снегов и льда, холмов и неба.
Ещё останавливались. Подходили к местному рыбаку – одна рыбёшка, окунёк промёрзший, скрючилась возле его ног.
– Сколько стоишь?
– Часа два. Или три. Не знаю.
– И что – весь улов?
– Угу.
– Работа-то какая-нибудь на селе есть?
– Ты чё! Какая у нас может быть работа?
И всё время разговора удочкой, как заведённый, – дёрг, дёрг, а глазами, припорошёнными пустотой, – под ноги, но без погляда в лунку или на удочку.
Ещё останавливались – пять-шесть хмельных мужиков набились в жигулёнок; и они и шофер уснули на ходу, заехали в целину. Чудо, что ни с кем не столкнулись, никого не задавили. Очнулись, не могут выбраться из сугроба, стали заводить – тосол, оказалось, вытек.
– Дай тосола.
– Нету.
– Дай пешню – из лунки воды залью.
– Нету. По какому случаю нажрались, герои?
– У нас каждый день случай. Пей да дрыхни – живём весело. Дай на бутылку.
– Да ты ни до какой бутылки не доедешь и не добежишь – замёрзнешь, дурило. До ближайшего села километров под сорок.
– Ай, один раз живём! Чё, и ста граммов нету?
Выкатили из сугроба, и больше ничем не могли помочь, своей дорогой поехали.
И ещё случались остановки. Во время одной из них с потешным, чумазым пареньком, лет семнадцати, поговорили. Его уазик занесло в сугроб, чуть не опрокинуло, двигатель заглох. Подбежал паренёк к нашему шофёру:
– Слушай, покажи, как эту чёртову колымагу заводить.
– Ты что, первый раз замужем, в смысле за рулём? – шутливо спросил шофёр.
– Да, – серьёзно ответил паренёк, шмыгая простуженным, высиненным носом.
– Ну ты даёшь! Кто же тебе доверил руль?
– Водка на лесопилке кончилась, мужики все бухие, а я ещё не умею много пить. Говорят: садись, малой, в уазик, дуй в деревню за водкой. Ну вот, я сел и поехал. От встречного КамАЗа увернулся еле-еле и забабахался в сугроб. Помогите, что ли.
Вытолкали машину на дорогу. Шофёр показал пареньку, как завести её, как переключать скорость, ещё какие-то напутствия дал.
Часа за три добрались до Аталанки, той, новостройной, в которой мальчик Валя Распутин прожил лет двенадцать до своего поступления в университет.
Произнесли подобающие событию речи, открывая музей-квартиру – маленький, старенький домик на два хозяина по улице Школьной, 24.
А улица, к слову, во всём посёлке, кажется, одна, если не считать заезды от реки и выезды к тайге; честно скажу, не разобрался. Приметно: много брошенных домов, всюду, не знаю, запустение не запустение, но село малоухоженное, безлюдное, сиротливое. Может быть, летом как-то весёльше картина.
Через стенку живёт двоюродная сестра Валентина Распутина, к сожалению, не расслышал её имени, – она теперь и смотрительница музея-квартиры. Не очень-то разговорчивая, беспрестанно хлопочет по хозяйству, кур кормит, двор метёт; маленькие ребятишки её играются у ворот, старшие – в трудах. Как ютится семья на своей половинке – непонятно.
Спрашиваю:
– Как вам живётся здесь?
– Да ничё, – отвечает со стеснительной улыбкой.
– Свет есть?
– Да вон, механизма трещит. На несколько часов включают.
– Не так уж и далеко Братская ГЭС – почему же механизма ?
– А чёрт их знает, – отмахнула метлой.
Кто же они – их ? Почему до Аталанки и многих других сёл по Ангаре не дотянули свет? Почему нет как нет сюда дорог? А то, что означено на карте дорогой, – не дорога вовсе, а направление. Почему пассажирский катер или теплоход редкие гости здесь?
– Молодёжь-то задерживается?
– Чё имя тут делать? Загибаться? Ну нет: пущай хоть они поживут, как люди. Не надо имя нашей лямки проклятой.
Потом в школе, красивой, кирпичной, построенной по хлопотам Валентина Григорьевича, посмотрели концерт. Пели под баян местные учителя:
…А река бежит, зовёт куда-то,
Плывут сибирские девчата
Навстречу утренней заре
По Ангаре,
По Ангаре…
Ещё, ещё пели. Пели хорошие, прекрасные советские наши песни, пели самозабвенно, голосисто, что там! – пели так, что поневоле подумаешь: не жизнь у них тут – песня разливанная.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Донских Яблоневый сад [litres] обложка книги](/books/401226/aleksandr-donskih-yablonevyj-sad-litres-cover.webp)

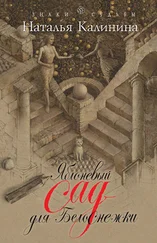

![Полли Хорват - Ночной сад [litres]](/books/400175/polli-horvat-nochnoj-sad-litres-thumb.webp)
![Александр Донских - Отец и мать [litres]](/books/415697/aleksandr-donskih-otec-i-mat-litres-thumb.webp)