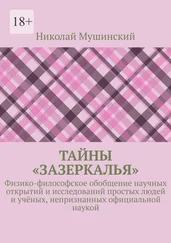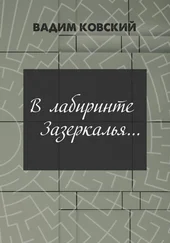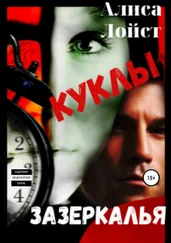В итоге сталинской неустанной деятельности Л.Д. Троцкий был выслан из страны и после многолетней на него охоты убит, А.И. Рыков расстрелян, А.Г. Шляпников расстрелян, П.Е. Дыбенко расстрелян, И.А. Теодорович расстрелян, В.А. Антонов-Евсеенко расстрелян, Н.В. Крыленко расстрелян, Г.И. Опоков расстрелян… В ходе политико-экономических процессов 1930-х годов пошли под нож Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин и другие.
«Похлебку классовой борьбы», пользуясь формулой Я. Смелякова, Сталин продолжал варить до конца жизни. Уже действительно старым и больным человеком, пережившим инсульт, они просил ХIХ съезд КПСС освободить его от должности Генерального секретаря партии, но делал это перед онемевшими от ужаса делегатами скорее по давней привычке провокационно проверять реакцию ближнего круга (примерно так он спаивал участников своих застолий, сам оставаясь совершенно трезвым), нежели сообразуясь с реальным состоянием своего здоровья. Иначе зачем бы на сугубо секретном пленуме ЦК, собранном сразу после съезда (материалы его до сих пор закрыты и известны только по отрывочным воспоминаниям участников, не решавшихся записывать происходившее на их глазах), «дряхлый» Сталин, без бумажки, произнес эмоционально-злобную полуторачасовую речь, с ее главным тезисом: классовая борьба и по сей день продолжается, причем не где-нибудь, а в самом Политбюро. При этом он набросился на ближайших сподвижников: обвинил Микояна в пособничестве крестьянству, которого тот предлагал освободить от каких-то налогов, якобы полагая, что мы что-то им должны, тогда как они кругом должны нам (не отпускала большевиков, вслед за Лениным, до конца жизни ненависть к этому классу!), а Молотова — в готовности передать Крым евреям и разглашении государственных тайн своей жене-еврейке (которая, кстати, при молчаливом согласии мужа уже свое отсидела), а так же данного на Западе врагам, не иначе как в «подпитии», обещания начать издание в СССР буржуазных газет и журналов. Выразительно написал об этом в своих воспоминаниях К. Симонов.
Угроза прежних расстрельных ярлыков — «правого уклона», «капитулянтства» — казалось, просто витала в зале в воздухе над покорно склоненными головами… Я думаю иногда, какими мелкими должны были казаться Сталину послевоенные политические кампании, вроде «ленинградского дела» и борьбы с космополитами, по сравнению с парадными процессами 1930-х годов. Он мечтал о другом масштабе, о большой крови и, возможно, готовил такой — мирового резонанса — процесс над деятелями культуры. Помешала война, и центральные фигуры возможного судилища — М. Кольцов, Вс. Мейерхольд, И. Бабель, пока на других еще собирались материалы, были пущены в расход бездарно, понапрасну.
Непосредственно перед Великой Отечественной войной Сталин уничтожил чуть ли ни весь высший командный состав Красной Армии. Были расстреляны 3 маршала, несколько адмиралов, 10 командующих армиями, 60 командующих корпусами, 135 командующих дивизиями, 56 генералов, неисчислимое количество армейских комиссаров и пр. и пр. Я помню то потрясение, которое все мы испытали, когда был опубликован (еще не заглохла инерция хрущевской «оттепели») первый вариант списка расстрелянных командиров, получивший название «Список Тодорского», по имени А.И. Тодорского, комкора, отсидевшего огромный срок и, выйдя на волю, первым решившегося подсчитать потери советского командного состава, человека, чья книга 1920-х годов «Год — с винтовкой и плугом» была высоко оценена Лениным.
Здесь не место гадать, были ли тому разгрому реальные основания в виде заговора военных или мудрый вождь поверил фальшивке гестапо. Достаточно и того, что он имел все причины видеть в армии единственную силу, способную свергнуть его режим в свете надвигающейся военной угрозы, далеко зашедших заигрываний с Гитлером, нарастающего политического террора и сугубо силового управления народным хозяйством.
Стратегия сохранения верховной власти была проста до гениальности — подстригать, опираясь на низменные инстинкты homo sapiens, проявляющиеся как только вышеозначенный homo объединяется в толпу, все сколько-нибудь выбивающееся наверх и способное к конкуренции. Убирали соучастников, убивали свидетелей. Поэтому наряду с прямыми жертвами в годы «большого террора» было уничтожено и энное количество их палачей, что впоследствии успешно использовалось приверженцами тоталитарного режима в качестве оправдательного аргумента: власть-де осуществляла высшую справедливость абсолютно объективно, не отдавая предпочтения ни одной силе социального процесса и не щадя даже верных своих опричников…
Читать дальше


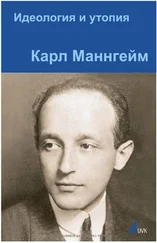
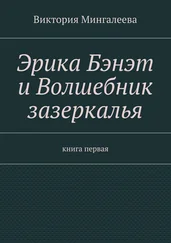

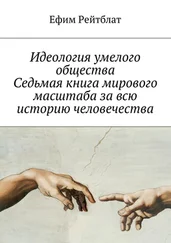
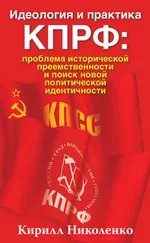
![Ольга Куно - Семь ключей от зазеркалья [litres]](/books/384216/olga-kuno-sem-klyuchej-ot-zazerkalya-litres-thumb.webp)