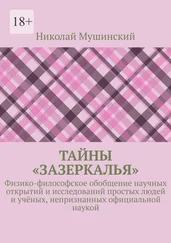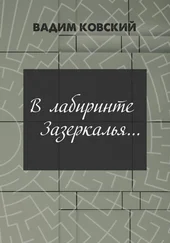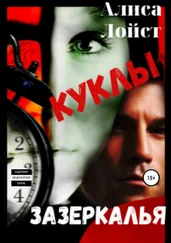«…насилие само по себе не в состоянии делать деньги, а в лучшем случае может лишь отнимать сделанные деньги», — со свойственным ему остроумием заметил Энгельс в «Анти-Дюринге». К сожалению, как «делать деньги» после пролетарской революции, и сами основоположники плохо себе представляли. Характерно, что разорившую крестьян «продразверстку» Ленин называл «военным коммунизмом». Почему «военным» — понятно: шла война, крестьяне сами бесплатно хлеб отдавать не хотели и его надо было насильственно отнять. Но почему «коммунизмом»? А по той простой причине, что крестьянам предлагался как бы именно «продуктообмен»: менять, правда, было не на что, и крестьяне должны были поделиться, уверовав, что голодный город потом возвратит все товарами, дать «продукт» в долг под будущий продукт. «По-человечески», иными словами поступить, «по-коммунистически». В противном случае, те, «кто держат сотни пудов хлеба», пусть и «собранного своим трудом», надеясь его «продать», да подороже, а не отдать бесплатно, превращаются, по Ленину, в «разбойников, эксплуататоров».
На самом деле в разбойников и эксплуататоров по отношению к крестьянам превращался тем временем именно мифический пролетариат, под флагом которого успешно укрывалась в 1920-е годы государственная власть. «Диктатура пролетариата в России повлекла за собой такие жертвы, такую нужду и лишения, <���…> каких никогда не знала история», — признавался Ленин. В «стране, до последней степени разоренной, стране голодной и холодной, где нищета достигла самой отчаянной степени», он искренне считал «разверстку в деревне» «непосредственно коммунистическим подходом» и отменил ее, только «наткнувшись весной 1921 года» на «глубокий экономический и политический кризис», который, однако, опять-таки отнес за счет самого крестьянства, разоряемого его «продразверсткой»: «Мы рассчитывали — или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного расчета — непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку».
В отличие от Сталина, Ленин свои ошибки умел во время признавать. Нэп и был попыткой Ленина исправить их, но вовсе не признанием провала революции и реставрацией буржуазных отношений, а чисто практическими мерами, «временным отступлением». В выступлениях, заметках, записках 1920—1923 гг. у Ленина действительно произошла известная «перемена точки зрения на социализм»: он перестал надеяться на «мировую революцию»; проявил готовность хоть как-то повернуться к «частному интересу» нелюбимого крестьянства; призвал прекратить «болтовню» о пролетарской культуре и заняться хотя бы освоением буржуазной.
Выход из тупиков революции он попытался найти в сугубо прагматических действиях — наладить крестьянский товарооборот путем «кооперации», сократить и реорганизовать государственный аппарат, улучшить качество образования. По существу, нэп и был таким прагматическим решением — ему предназначалась роль сказочной курицы, которая должна была снести для советской власти золотое яичко, после чего отправиться в суп (новой экономической политике еще и полтора года не исполнилось, когда Ленин уже заявил: «Наше экономическое отступление мы теперь можем остановить. Достаточно. Дальше мы не пойдем»). Нетрудно даже вообразить, что политик невероятной гибкости, вплоть до полной, при необходимости, беспринципности, Ленин мог бы вводить Нэп перманентно и неоднократно, сворачивая его после очередной «подкормки» никак не встающего на ноги социализма, тем более что «командные высоты» действительно находились в руках у власти и позволяли держать процессы временной «капитализации» (Ленин называл их «государственным капитализмом») под жестким контролем. Впрочем, говорить о теоретических обоснованиях экономики социализма в работах Ленина всерьез трудно. Почему, например, «простой рост кооперации» в ленинском понимании уже «тождественен социализму», столь же неясно, как знаменитая арифметическая формула, ставшая объектом упражнений для многих острословов: коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. А ведь таких определений у Ленина десятки…
Нэп в городе и «строй цивилизованных кооператоров» в деревне (где «государево око» опять-таки должно было зорко наблюдать, чтобы крестьянство не могло по-настоящему встать на ноги) — вот, собственно, все экономические идеи, связанные с построением социализма в «отдельно взятой стране», которые Ленин успел передать своему преемнику.
Читать дальше


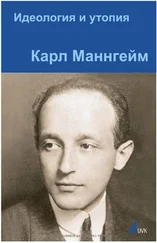
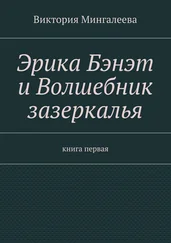

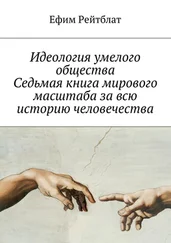
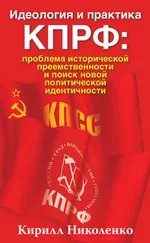
![Ольга Куно - Семь ключей от зазеркалья [litres]](/books/384216/olga-kuno-sem-klyuchej-ot-zazerkalya-litres-thumb.webp)