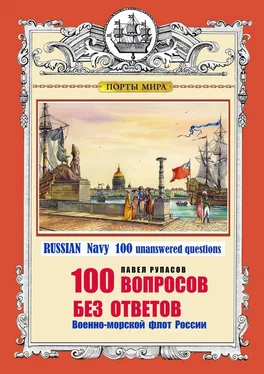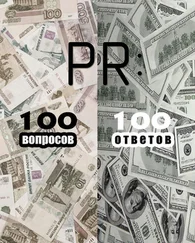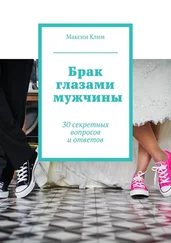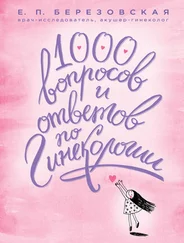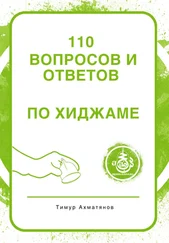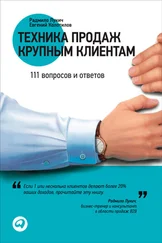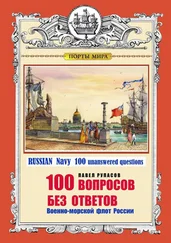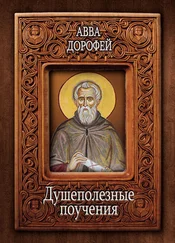С «непобедимой» твердостью, устоявшейся и отработанной во время службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в иных — боевых военных — условиях, где Руслану Шамсудиновичу приходилось служить и дослужиться до звания генерал-майора, «там», на военной службе, у Руслана Шамсудиновича выработалась собственная «наука побеждать», собственные представления о кадровой политике (способах подбора персонала в Центральный военно-морской музей России) и еще ко многим и многим другим «делам», которые он знает и понимает. Всё находящееся за пределами в силу возраста, отсутствующего опыта и бескомпромиссности, характерной для настоящего лидера, во вверенной ему организации отвергается. Так целые области быстро хирели «без полива», забывались, не изучались и не умножались, за современными задачами становились не видны и не нужны.
У музея за годы советской власти были разные директора и начальники. По рассказам людей, проработавших в музее 10, 20, 30 и 40 и более лет, редко бывали директора «из размышляющих историческими категориями» или имеющих сколь-нибудь подходящее академическое образование, концептуальное мышление, редко они бывали и людьми пишущими (научных статей директора прошлых времен — советской власти — не писали совсем или писали в редких случаях). Но по большому жизненному опыту они, будучи хорошими хозяйственниками, имеющими крестьянскую хватку, как, например, послевоенный директор Кобыльских Сергей Максимович (1946—1947 гг.) или Кровяков Николай Сергеевич (1947—1951 гг.), которых вспоминает В. Б. Морозова, отличались «понятливостью». Они — фронтовики, воевавшие в Великую Отечественную войну, понимали нужды простых людей, уважали «ученость» сотрудников, не имели высокомерия и заносчивости, вскоре бурно расцветшие среди чиновничьего сословия, фронтовики-директора не имели тенденций перестроить «здание музея» по своему пониманию. Наоборот, они всячески учились у сотрудников так мало им знакомому музейному делу, в начале своего начальствования поменьше командовали, свои «суперценные» мысли вслух не высказывали, побольше молчали и слушали. И, нужно отдать им должное, через несколько лет представляли собой уже довольно опытных специалистов в музейном деле, продолжая понимать, что границы их музейного опыта остаются достаточно узко-административными, и указывать в фондах, как здесь нужно правильно работать они себе не позволяли… Директора-фронтовики впитывали от окружающих знатоков-историков — сотрудников музея — общее знание и уважение к морскому делу. К службе морской и дружбе мужской. Это воевавшее поколение «из ниоткуда возникнув» — все сплошь сыны крестьян и рабочих, через одного воевавшие в окопах Второй мировой войны — дало стране плеяду людей, выработавших в себе академическое мышление и составивших славу русской науки, академиков и теоретиков молодого советского государства. Государства рабочих и крестьян, победившего фашизм…
Куда делись они со временем, после 1974—1975 года, нам не удалось понять, но их постепенно сменили «нехаи». Причины тому называют всякие, но одна из них понятна — шапкозакидательство: «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», и «покажем Кузькину мать». Наши корабли, наша советская техника всегда стремилась к повышению боевой мощи за счет всего остального, поэтому вопросы обитаемости на кораблях были на одном из последних мест. Коммунизм строили за счет человека и не считаясь с нуждами человека, поспешая «догнать и перегнать» капиталистические страны. Все люди хотят человеческих условий жизни. Если человеческие условия десятилетиями «нечеловеческие» и «обитаемость кораблей» не улучшается, население в конце концов устает, и энтузиазм строить великое будущее угасает. Это, наверное, только одна из причин, почему великая страна Союз нерушимых республик — пала.
Нас, возгласивших «мир ради простого человека», нас, увлекшихся на крестовый поход в портянках и «хоть с молотом и серпом, но победим гидру империализма», нас, забывших в борьбе, что простой человек хочет счастья в обозримом будущем, в течение своей жизни… Нас и тех, кому мы верили — долго ведь верили в социальное счастье… Долго хватало простым людям счастья от понимания, что они вовлечены в великий социальный процесс — строительство вечной мечты всех бедных и угнетенных, строительство прогресса и светлого будущего для всех…
Нас, у которых никак не получалось ни будущее здесь и сейчас, ни будущее «потом». Нас — во всем мире, нас в отдельно взятой стране постепенно «выкупили» все те маленькие удобства, которое напридумывал для простых людей мир капитала: все эти джинсы, жвачки, щеточки и пилочки, все эти отдушки и лаки для волос и ниже… Они суммарно — дающие гаджеты «счастья» — они подрубили нас, мы устали спать в снегу, жить в бараках, погибать за идею…
Читать дальше