Если кто-то думает, будто я хвастаюсь тем, что не учил физику, тот ошибается. Напротив, я очень об этом жалею. Особенно я жалею об этом в те минуты, когда на своей собственной левой ладони натыкаюсь взглядом на едва заметный и давно привычный шрам.
А шрам этот вот откуда. Поскольку физику я, как было сказано в начале, не учил, я не знал о том, что одной рукой плотно затыкать пробкой стеклянную колбу, а другой — держать ее над огнем — нельзя. Вот и шрам на левой руке, благодаря которому я это с тех пор хорошо усвоил.
Плотно затыкать и при этом нагревать — нельзя, господа, уж поверьте. Если не верите, могу шрам показать.
* * *
Весной сорок первого года мои родители и мой старший брат, которому было тогда три года, поселились в маленьком литовском городке, в нескольких километрах от германской границы.
Отец был военным, вот его туда и послали. Литва только что была присоединена к “братской семье народов”.
Мама рассказывала, что ей все время было страшно. Также она рассказывала множество различных курьезных историй вроде того, что некоторые жены советских офицеров накупили себе розовых женских комбинаций с кружевами и носили их как вечерние платья.
Были и довольно рискованные по тем временам шутки. Например, город Каунас между собой называли “Пока у нас”.
Местные жители этого городка лучше других, лучше Сталина и всего советского народа, твердо знали, что война вот-вот начнется. На другом берегу реки стояли немецкие части. Немцы с того берега весело махали руками и кричали на “нашу” сторону: “Ждите нас! Мы скоро придем к вам!”
Мама плакала по вечерам. Партийный отец сердился: “Не устраивай панику”.
Числа девятнадцатого или двадцатого июня отца отправили в командировку в Ригу. В доме остались мама и мой брат.
Ранним утром двадцать второго маму разбудили звуки выстрелов и, как ей показалось, лязга танковых гусениц.
Она стала метаться по квартире, не зная, что делать. Брат мирно спал.
Через час примерно на грузовике, уже полном народу, заехал отцовский сослуживец, которому поручили эвакуировать офицерские семьи. Потом он ей признался, что вспомнил о ней уже тогда, когда они собирались уезжать. Хорошо, что вспомнил.
Она схватила сына в одеяле, из вещей успела взять часики, деньги и зачем-то — зимнее пальто. Пальто потом, уже в эвакуации, очень пригодилось, когда пришлось обменять его на хлеб.
Когда она уже залезла в кузов, из дверей дома выбежала квартирная хозяйка, еврейка, и прямо в кузов бросила большую кружку, в которой был большой кусок сливочного масла.
Когда машина стала отъезжать, хозяйка помахала ей рукой. Маме навсегда запомнился ее прощальный взгляд.
А кружку эту я хорошо помню. Она долго стояла у нас в доме и употреблялась как мера при готовке. В ней помещался ровно один литр воды.
* * *
Однажды, очень давно, когда нам с другом Смирновым было лет по пятнадцать, мы с ним ехали в автобусе. Естественно, зайцами. Потому что как же без мороженого.
На какой-то остановке вошли контролеры и стали проверять билеты. Дошла очередь и до нас. Мы опустили повинные головы и стали что-то лопотать про “потеряли билеты”. Причем оба сразу потеряли. Ну, обычное же дело…
“Сообщим в школу, — сурово сказал контролер. — Как ваши фамилии?”
Ну, это ерунда! Фамилии! Фамилии — это всегда пожалуйста!
“Моя фамилия Петров”, — честно сказал Смирнов. Контролер записал.
“А твоя?” — спросил он.
Мы со Смирновым только что прочитали по очереди одну и ту же книжку и беспрерывно ее цитировали, поэтому я без запинки сказал: “А моя фамилия Ильф”. Контролер записал.
Ну и номер школы мы на всякий случай тоже слегка изменили. Не сильно, нет. На одну лишь цифру всего лишь. Все-таки честные же ребята.
Так что вполне возможно (а скорее всего — нет), что в одну из московских школ было сообщено о злостных безбилетниках Ильфе и Петрове.
Это было давно, во времена цветущего литературоцентризма.
В нынешние времена мы бы, небось, в подобной ситуации к фамилии “Петров” тут же прицепили бы, допустим, “Баширова”.
Что, безусловно, свидетельствует об интеллектуальной деградации. Причем не только индивидуальной, но и общества в целом.
* * *
Молодым-то людям, небось, кажется, что популярный в народе пищевой продукт, называемый исконно русским словом “майонез”, и сам является беспросветно исконным вроде сбитня, киселя, щей, тюри и затирухи.
Но, представьте себе, молодые люди, что был он не всегда. По крайней мере, в том виде, в каком мы все его знаем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



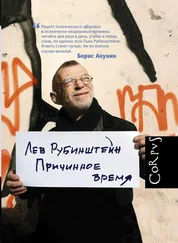

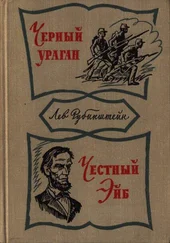




![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
