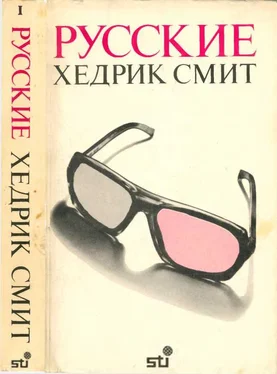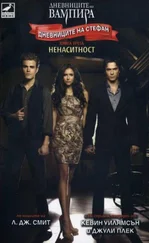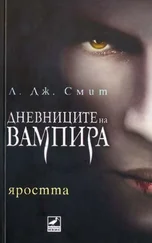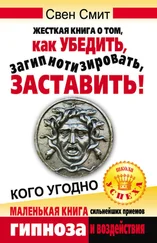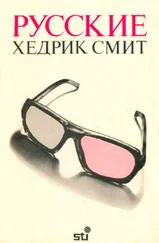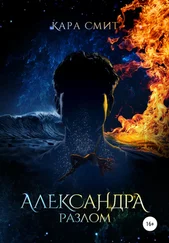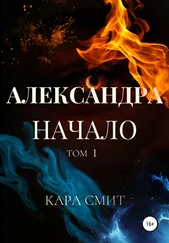”Пока речь шла о "поп”-культуре, мы говорили на одном языке, — рассказывал Александр, — но стоило перейти к политике, как взаимопонимание кончилось. Он настолько вышел из себя, когда я стал критиковать советскую политику помощи арабам и защищать Израиль, что заявил — если бы мы оба попали на Ближний Восток, то были бы "по разную сторону баррикад” и он, ни секунды не колеблясь, стал бы в меня стрелять. Я ответил, что я стрелял бы в него. Вот так-то. У каждого из нас были джинсы и пластинки с "Суперзвездой”, но это еще ни о чем не говорило, разве что о нашем происхождении из семей элиты: он — из политической, я — из научной. Он смог достать джинсы благодаря положению, занимаемому его отцом, а я — потому, что мой отец имел возможность ездить за границу и купить их на Западе. Но джинсы сами по себе не несут политической нагрузки”.
Примерно такую же точку зрения высказывали и другие молодые люди; они говорили не только о джинсах и "рок"-музыке, но и о том, что, слушая передачи западных радиостанций или читая исподтишка запрещенные романы Александра Солженицына либо другую нелегальную литературу, люди в своих общественных проявлениях продолжают оставаться консерваторами, угодниками, конформистами. "На работе они выглядят и поступают, как положено", — сказал молодой редактор правого московского журнала, не очень-то вписывающийся в среду своих коллег. Другой молодой человек, комсомольский вожак учебного института, отличавшийся, впрочем, либеральными политическими взглядами и фанатически влюбленный в западную "рок"-музыку, подтвердил, что по отношению к установленному в стране порядку он в принципе лоялен. Когда же американский собеседник заметил, что не видит в среде советской молодежи движений протеста против университетских порядков, брожений в студенческих городках с требованиями больше считаться с голосами студентов при решении их дел, стремления разоблачать политику своей страны, как это делают молодые американцы, молодой русский недвусмысленно заявил: "Если мы любим Джимми Хендрикса (американский исполнитель песен в стиле "рок”), это еще не значит, что мы меньше готовы сражаться за свою страну”.
Политический конформизм советской молодежи не столь удивителен, если учесть то окружение, в котором она живет, ибо, если система придает чему-нибудь серьезное значение (как, например, воспитанию студентов университетов, куда принимается лишь незначительное меньшинство и где молодежь получает возможность начинать свою карьеру), она не терпит ни малейшего сопротивления традициям, которое столь естественно для студенческих городков Запада. Как-то я спросил студента-англичанина, учившегося в Советском Союзе, каково его основное впечатление о студентах Московского государственного университета (МГУ). Он ответил, не колеблясь: "Забитые”.
— Что это значит?
— Это значит, что им не хватает жизни и естественности. В МГУ вы увидите гораздо меньше самых невинных шуточных проделок, дурачества, чем в любом университете Запада.
Основная причина этого кроется, разумеется, в общем политическом климате страны в последние годы и неослабном контроле над студенческой жизнью. И этот контроль резко отличается от того, что представляет себе большинство людей Запада: он настолько более основателен, всесторонен и эффективен, что стоит остановиться на описании сети всевозможных установлений, в которой приходиться жить и созревать советской молодежи. Речь идет не о контроле со стороны КГБ над диссидентами. Этот вид контроля затрагивает ничтожно малое количество молодых людей. Гораздо более прост и невинен и в то же время гораздо более эффективен контроль, а также разные виды проверок, вплетенные в саму ткань унифицированной и контролируемой государством советской системы высшего образования и вступления на путь деловой карьеры.
Эта система предоставляет студентам не только возможность учиться бесплатно, да еще получать скромные стипендии, но и строить свою жизнь по раз навсегда разработанной схеме. В общих чертах эта схема выглядит так: молодой человек поступает в техническое высшее учебное заведение, сельскохозяйственный институт, институт прикладного искусства или в литературный институт и по его окончании получает соответственно диплом инженера, агронома, художника-графика или писателя. Согласно экономическим прогнозам, на каждый год устанавливается потребность в будущих специалистах каждой категории, и когда молодые специалисты заканчивают институт, им гарантирована работа по специальности, даже не только гарантирована, но они обязаны к ней приступить.
Читать дальше