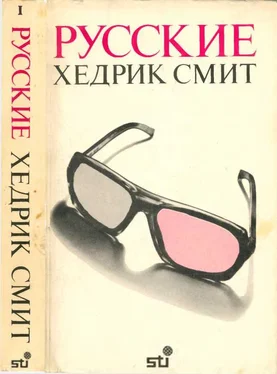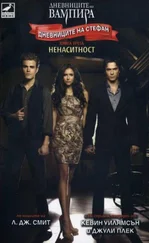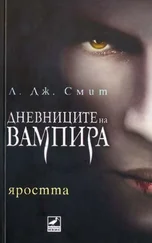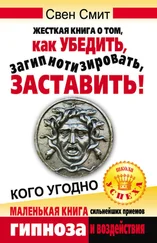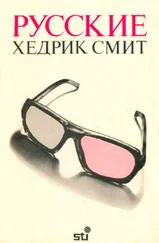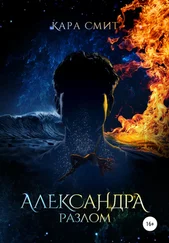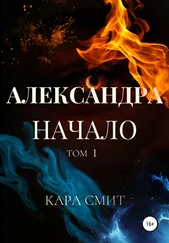"Наши студенты — не радикалы и не борцы за прогресс. Они принадлежат к молчаливому большинству, — комментировала мать рассказчика, женщина средних лет. — Им приходится быть лояльными, послушными, иначе им не удержаться в своих вузах, особенно в таких, как МГУ. Ведь существует столько способов давления: студентов могут лишить стипендии, места в общежитии, а самое главное, могут выгнать из университета. Если принять во внимание, что только немногие счастливцы попадают в институты, а в наиболее перспективные вузы — и того меньше, станет ясно, что студенты дрожат за свои места и берегут свое будущее. Отметка о неблагонадежности записывается в личное дело и сопровождает человека всю жизнь. Если вас выгнали из одного университета, вас не примут ни в какой другой. Поэтому студенты всеми силами стараются удержаться. И это совсем не обязательно по материальным соображениям, скорее из-за любви к избранной профессии. Если молодой человек любит биологию или физику, или историю, он не может позволить себе рисковать и допустить, чтобы его выгнали из университета, потому что это означает, что он лишается любимого дела на всю жизнь. Нечего после этого удивляться конформизму наших студентов".
Еще одно весьма существенное отличие от молодежи Запада, способствующее укреплению политической ортодоксальности советских молодых людей, — это их зависимость от родителей, тесные семейные связи. До поступления в высшее учебное заведение, во время учебы и нередко много лет после его окончания человеку приходится жить с родителями из-за нехватки жилья. Некоторых это злит; другие считают такое положение в порядке вещей, но все прекрасно понимают, что поделать тут практически ничего нельзя. Неоднократно бывавшая за границей жена высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел рассказывала, что на ее замечание сыну-студенту, сделанное в духе западных родителей: "Пора бы уж тебе подыскать какую-нибудь работу и самому зарабатывать деньги, чтобы быть более самостоятельным”, сын, не моргнув глазом, ответил: "Ладно, мама, только ты сначала подыщи мне квартиру”. "Конечно, найти квартиру не так-то просто, — продолжала она. — И вот до сих пор сын живет с нами, в нашей трехкомнатной квартире. Учится в университете, и его подолгу не бывает дома. На два месяца он бросил университет и куда-то исчез. Куда — не знаю. Но вернувшись, снова начал заниматься в университете и, разумеется, опять живет с нами”.
Человек живет с родителями, что оказывает на него сильнейшее влияние. Это может вызывать трения между отцами и детьми — ведь в таких условиях молодому человеку трудно найти уединение, к которому он стремится, но зато дольше сохраняются семейные связи. Это означает, что родители продолжают принимать участие в жизни своего взрослого дитяти; молодые американцы расценили бы, вероятно, такое явление как посягательство на их независимость. А в России один студент-химик, например, говорил, что не видит ничего особенного в том, что всю стипендию, за вычетом комсомольских взносов, отдает матери для пополнения семейного бюджета, а не оставляет себе. Студенты, живущие в студенческих городках, рассказывают, что их стипендии — 40 рублей в месяц — не хватает даже на самое необходимое, не говоря уже о каких-то иных личных расходах, составляющих, правда, по мнению ребят, из наиболее обеспеченных семей, 120–150 рублей в месяц (в провинции, по-видимому, значительно меньше). Вот и приходится обращаться к родителям, чтобы покрыть этот дефицит — таково еще одно звено цепи, связывающей молодежь со старшим поколением.
Весьма значительным отличием от Запада является и шкала духовных ценностей. В России не существует свойственного Америке культа молодежи, и авторитет родителей здесь по-прежнему относительно высок. Советские студенты меньше конфликтуют со своими родителями, чем молодые американцы. Многие молодые люди посвящают родителей в свои дела, советуются с ними по поводу учебы, путешествий, выбора работы, женитьбы; многие из них готовы издалека лететь домой на день рождения кого-нибудь из родителей или на семейное торжество. У западных студентов такое встречается гораздо реже. Если родители, особенно занимающие хорошее положение, располагают нужными связями, это существенно повышает их авторитет у детей, особенно, когда сын или дочь хотят избрать ту же карьеру, что и родители, а это весьма частое явление в Советском Союзе.
В силу всех этих причин современное молодое поколение России гораздо больше оторвано от своего собственного прошлого, чем любое другое на протяжении всей Советской истории. Людям Запада, особенно американцам, пережившим душевные муки в связи с посягательством на их гражданские права, с войной во Вьетнаме и со скандалом по поводу Уотергейтского дела, трудно понять, что значит жить в обстановке исторической "глухонемоты". Ибо попытки решения самой острой реальной проблемы советской истории, сталинизма, были подавлены, и, судя по всем внешним признакам, молодое поколение 70-х годов растет в обстановке, когда тщательно вытравляется сама память об этой эпохе. Старейшины партии постановили, что сталинские репрессии — закрытая книга, что все эти проблемы партией уже обсуждены и погребены и что нечего публично ворошить старое. В семьях ведутся, конечно, разговоры об этой эпохе, но мнения, высказываемые разными поколениями, иногда оказываются обратными тому, что я ожидал. Вспоминаю высокого русского юношу, столь страстного поклонника "рок”-музыки, что он пошел на невероятный риск и мимо вооруженных советских охранников проскользнул в Американское посольство, чтобы посмотреть фильм с Битлами "Концерт для Бангладеш". И это сошло ему с рук. Как-то он поспорил с отцом, членом партии, о Сталине, Как часто бывает в "кухонных” беседах, они в мирной болтовне, перескакивали с одного на другое, как вдруг разговор принял довольно острый характер. Сын оправдывал жестокость Сталина при проведении коллективизации и те суровые приемы, с помощью которых была осуществлена индустриализация страны в 30-е годы. Такая точка зрения очень огорчила отца, более либерального, несмотря на возраст, а может быть, именно поэтому, так как он достаточно близко наблюдал страшные события, о которых шла речь, и знал о них, так сказать, из первых рук. Роли отца и сына распределились обратно тому, что, по мнению людей Запада, должно наблюдайся в России при спорах о личности Сталина, о его эпохе. "Я думаю, в то время стране нужен был Сталин”, — сказал сын, комсомольский активист. "Что?! — возмутился отец. — Ценой двадцати миллионов жизней?!” Эта цифра произвела впечатление — сын несколько умерил свой пыл, но от основного аргумента не отказался. "Да, конечно, террор был чрезмерным и принес много бед. Но, может быть, Сталину приходилось прибегать к такому насилию, чтобы объединить страну, сохранить ее целостность. В то время это было необходимо”.
Читать дальше