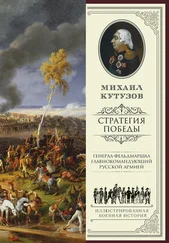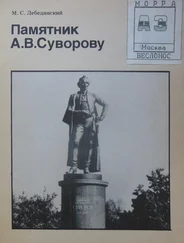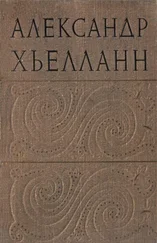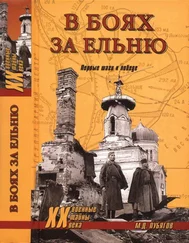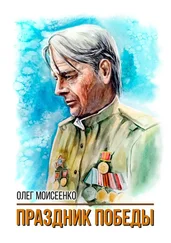И действительно, несмотря на тесную связь с войной, реальной и воображаемой, День Победы вряд ли когда-либо был народным карнавалом (в понимании Бахтина), праздником низвержения официальных социальных устоев. Воспроизводя военный опыт через целый мир символов, предметов и практик повторения (театрализованных реконструкций), он тем не менее никогда не воссоздавал тех экстремальных, хаотичных условий военной ситуации, которые, по Кайуа, соответствуют традиционному праздничному ритуалу, — не воссоздавал их даже для ветеранов, переживших такого рода опыт. Напротив, День Победы очевидно выражает стремление обуздать этот хаотический опыт и через повтор, ритуализацию и символическую концентрацию приручить его, вписать в привычные рамки действующих социальных норм. Причем это стремление не только и не столько абстрактного государства, опасающегося всплеска народной энергии, но и общества в целом, и не в последнюю очередь — самих ветеранов военных действий.
Аналогичное наблюдение относится и к военным памятникам: помимо функции монументального выражения определенных, санкционированных советской властью интерпретаций событий войны, они служили еще и целям пространственной концентрации. Сооружая всё новые и новые памятники (зачастую становившиеся местами перезахоронения) в стремительно растущих городах, планировщики, архитекторы и скульпторы перемещали войну (и останки погибших солдат) из сельской местности, в которой ее следы были наиболее заметными, в места, связь которых с военными действиями зачастую была опосредованной или символической и потому легко манипулируемой.
Подобные процессы вполне укладываются в общие тенденции, описанные исследователями других национальных праздничных традиций. Трансформации Дня Победы отражают поиски ритуала, способного обеспечить общественную интеграцию, — причем это поиски, которыми занята не только «власть», но и общество в целом. Однако (разделяемое как Дюркгеймом, так и советским руководством) представление о том, что праздник, отмечаемый публично и с максимальным количеством участников, обеспечивает такую интеграцию автоматически, не соответствует действительности. Как показал социолог Амитай Этциони[43], одни и те же ритуальные действия в одном случае могут сплачивать общество или отдельные сообщества, а в другом — просто временно снимать общественное напряжение; частным случаем такого рода праздников как раз и является карнавальная инверсия социального порядка, описанная Бахтиным[44]. Наше сравнительное исследование позволяет говорить о том, что в разных странах и городах День Победы наделяется совершенно разными смыслами, несмотря на быстрое и практически повсеместное распространение внешне одинаковых символов и практики — от георгиевских ленточек до шествий «Бессмертного полка».
Таким образом, как бы мы ни оценивали празднование Дня Победы в советские годы и степень идеологической стройности и унифицированности этого праздника, очевидно, что после распада СССР говорить о едином Дне Победы уже не приходится. Изменился в первую очередь политический контекст праздника. Самое очевидное изменение — ослабление роли Москвы как единого центра, способного определять его смысл и структуру (хотя бы на самом официальном уровне) в обязательном для всех его участников (хотя бы только в России) порядке. Среди других факторов — создание новых национальных государств и переоценка истории Второй мировой войны и ее последствий в национальном ключе (в том числе и в России), превращение русскоязычного населения большинства постсоветских стран в этнические меньшинства и возникновение больших русскоязычных диаспор в Германии, США, Израиле и других странах.
В результате сегодня День Победы может иметь диаметрально противоположные значения для жителей разных стран, регионов и городов. И наше исследование выявило целый диапазон таких значений.
Одной крайностью можно считать случай Грозного, представленный в статье Ольги Резниковой. Здесь 9 (а также 8 и 10) мая в публичном городском пространстве — это праздник, принадлежащий исключительно политическому руководству. Жесткой, централизованной организации праздничных мероприятий в содержательном плане соответствует его связка с демонстрацией лояльности нынешней российской власти. В этом смысле всегда присутствовавшая в советском Дне Победы идеологизированность здесь доведена до предела, ибо, в отличие от советских времен, не оттеняется практиками, связанными с семейной памятью. Биографически центральная для всех чеченцев память о депортации и двух недавних войнах подавляется либо встраивается в культ убитого 9 мая 2004 г. Ахмата-хаджи Кадырова, его сына Рамзана и Владимира Путина, что происходит в том числе и при помощи нового календаря праздничных дат. Подобная идеологическая архитектура праздника, анализируемая Ольгой Резниковой как колониальная, выражается и в специальной организации городского пространства: допуск к этому пространству жестко регламентирован, и большинство жителей города могут видеть официальный парад лишь издалека или по телевизору. Аналогичную организацию пространства в случае Минска наблюдал Алексей Ластовский. Хотя в Минске, как и в Москве (см. статью Натальи Колягиной и Натальи Конрадовой) и ряде других городов, «торжественное шествие (максимально регламентированное и идеологически нагруженное), предназначенное в основном для ретрансляции по телевидению» [12], сопровождается народными гуляниями, что неудивительно ввиду центрального, в отличие от Чечни, значения Великой Отечественной войны для восприятия себя большинством жителей Беларуси.
Читать дальше