Частная жизнь тоже имеет право на существование. Озлобившись на «иркутский климат» Женевы, он «удирает» в Веве, где проживет почти целый месяц и, наконец, сделается «больше русским, чем французом», начав писать… «Мертвых душ», которых было оставил. Осень в Веве прекрасная, стоит почти лето. Лилово-голубые, сине-розовые горы здесь легче и воздушнее, чем в остальной Швейцарии. Преодоление самого себя, услаждающее его одинокий день, — писание по три страницы в новую поэму до завтрака. Но только до первых признаков ипохондрии, «происходившей от геморроид» по утверждению доктора. Италия место не подходящее в это время для Гоголя — там холера, заставляют его оказаться в Париже, куда он решился ехать, «чтобы разделить там скуку» Данилевского. Ему смешно, что он пишет «Мертвые души» в Париже.
В это же время Бальзак создает свои известные произведения: роман «Шуаны»(1829 г), «Полковник Шабер», «Сельский врач» — 1832 г., «Гобсек», — сцены парижской и провинциальной жизни, «Шагреневая кожа» — (1830–1831 г.), «Неведомый шедевр» (1832 г.) с его программой реалистического искусства, так называемые, философские этюды и в 1836 г. приступает к своей монументальной «Человеческой комедии».
Гоголь в это же время часто бывает в разных театрах, обедает в кафе, подолгу остается играть на бильярде, «совершает жертвоприношения» ресторанам Парижа, хотя уже страдает удивительной мнительностью и лечится на всякий случай от желудочной болезни у доктора Маржолена. Он страдает, хотя здоров. И дорога здоровья запирается для него с этих пор мраком, в котором всякое движение его индивидуального разума мнит тяжелую болезнь, и потому несет он свое горе и тяжело, и грустно, придавая отправлениям желудка чрезвычайно важное значение. Так начинается у него ипохондрический синдром, который имеет в конце концов для него фатальный исход.
Жизненные впечатления от встреч с людьми и опыт внутреннего самосозерцания, сверяемый компасом тоски по теперь уже далекой Родине, экспансия чувств, превращающих в свободном воображении (далеком от объятий Родины, где могут и задушить от полноты любви) фантазию в реальность — вот каков он теперь в ноябрьские дни 1836 г. в Париже, где он весь погружен в «Мертвые души»: «Огромно велико мое творение, и не скоро его конец. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что мне делать. Уж судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение. Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, произнесут примирение моей тени».
И в этих словах весь новый разрушающий все прежние сцепления с жизнью Гоголь. Он вступает в полосу непрерывных превращений, резких переходов святого отшельника, дух которого, хотя и бродит среди людей, но солнцеподобные лики их в его потусторонности давят его рождение художника, и поэтому он для них находится в каталептическом состоянии экстаза, что совершенно необычно для тех же «французов, привыкших ходить по твердой земле». Но совершенно очевидно, что именно в это время Гоголь достигает «уразумения своей божественной миссии» именно в Париже в 1836 г.! Но именно в это время на 27 году жизни его талант обретает музыкальную страстность слова, густеющий мозг порождает свежие краски жизни, является на письме отвага оратора и философа земли русской. Не теряя сознания реальности, он осознает, что черпает силы художника из трансцендентного абсолюта, где таится и призвание его самого. Вот почему: «Довольно дураков!» и «пусть писатели начинают!» становятся для него девизом в плане преобразования жизни в России вообще. Неукротимый инстинкт правды переживает он в своем сладострастном открытии метода художественного письма, которого до него не было в Русской литературе и автором которого является уже только он сам, несмотря на бесчисленные ожидания им же «эшафотов читающей публики», которые ожидают его в будущем. И сам жизненный опыт уже не является для него опытом самого человека, но на свой страх и риск из трансцендентного страдания извлекается им как мастодонт за мастодонтом из ледяных пещер воображения, где «понять» — значит «быть и действовать».
Но внешне особенно ничто не указывает на эти могучие духовные преобразования личности. Он ежедневно после обеда берет уроки разговорного итальянского языка, ввиду предстоящего путешествия в Италию. Политика его не интересует. В Париже — все политика — «в нужнике дают журнал». Равнодушным становится он и к уже написанным им произведениям, а на сообщение о том, что в России успешно ставят «Ревизора» реагирует как на что-то его совершенно не волнующее и даже раздражающее: «Я, право, не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» — плевать, а во-вторых — к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить». Он уже считает все написанное им «маранием», от которого долгого «забвения просит душа», а важным занятием считает успехи во французском языке, который хорошо начинает понимать, чтобы следить за театрами. Эта минута пути, в которой преображения самого себя для окружающих являет прилежного великовозрастного приготовишку, сопровождаемая овеществлением себя в окружающей жизни с отрицанием пройденного духовного пути, эта минута жизни, в которой обретается стержень всей будущей духовной жизни, где творчество является лишь частью этого гигантского айсберга познания людей в их вере и стяжании духа, эта минута жизни являет нам в Гоголе и его трагедию духа и величие его жизненного подвига как драмы, итогом которой и оказываются «Мертвые души».
Читать дальше



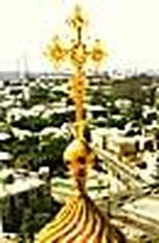
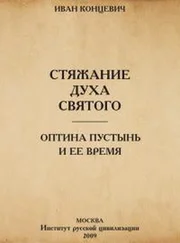
![Сергей Кутолин - Зяма Пешков - легионер и бригадный генерал [рефлексия жизнеописания]](/books/422558/sergej-kutolin-zyama-peshkov-thumb.webp)