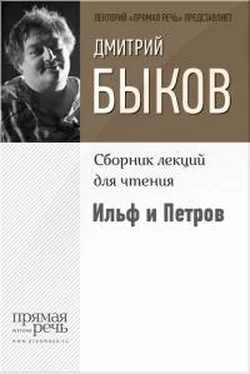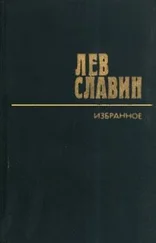Что еще чрезвычайно важно в облике Бендера? В своей ненаписанной, к сожалению, но, судя по оставшимся фрагментам, гениальной и исключительно откровенной книге «Мой друг Ильф» Петров, на три года переживший Ильфа, все время повторяет свою любимую и страшную мысль. Он говорит: «Вместо морали – ирония. Она помогла преодолеть эту послереволюционную пустоту, когда неизвестно было, что хорошо и что плохо». И это верно – любая этика была отменена. В мире «Двенадцати стульев» и отчасти в мире «Теленка» господствует даже не релятивизм, господствует великолепный, молодой, здоровый цинизм.
Все эти книги о смерти. Смерть постоянно ходит рядом. Даже повествование начинается со смерти, с выставки гробов, с похоронного бюро. Мы видим, что весь город и, более того, все герои, не только Старгород, не только Черноморск, но и Бендер во второй части, – все они ведут посмертное существование. Ведь это очень важно, что Бендер воскресает во втором томе, что у Бендера всегда наливается розоватой краской шрам на горле. Все они живут в посмертии. А в посмертии ни одна вещь не имеет своего истинного веса. Объектом тотального осмеяния, тотальной иронии становится всё.
В этом смысле особенно жестоко выглядит пародическая функция этих романов, потому что жесточайшим образом пародируется не только современная литература, но и русская классика.
Известно, что Ильф и Петров некоторое время писали под псевдонимом Толстоевский. И поэтому никого не должна удивлять подпись отца Федора, Чудакова замечательно это разоблачила: «Твой вечно муж Федя». Отец Федор всегда просит денег. Это очень точно травестированная, тогда как раз широко опубликованная вместе с расшифрованными записками Анны Григорьевны Сниткиной переписка Достоевского с женой. Он всякий раз в очередном письме клянется, что больше он уж точно не будет никогда играть, в следующем, что «больше совсем никогда», а в следующем, что теперь он разработал абсолютную систему, которая наверняка позволит ему выиграть, поэтому «заложи, пожалуйста, юбку». Всегда это сопровождается подписью «Твой вечно муж Федя». С этой пародией все понятно.
Старая теща, которая перед смертью рассказывает Ипполиту тайну сокровища, отсылает нас к «Пиковой даме». Это очень легко узнается: умирающая старуха, открывающая секрет богатства, – это, конечно, прямой привет Пушкину.
Никита Пряхин, который лезет спасать четверть хлебной и гуся, (гусь, кстати, тоже красной нитью проходит через текст как единственная универсальная советская ценность: с гусем бежит Паниковский, гуся спасает Пряхин) – этот подвиг Никиты Пряхина травестирует какой эпизод? Конечно, «Дубровский».
Можно было бы горстями вынимать из «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» эти отсылки, постоянно. Я уж не говорю о чрезвычайно жестоких пародиях на современность. Вспомним, как представляют нам Изнуренкова. Нам говорят, что Изнуренков действительно совершал свой подвиг, конькобежец Мельников рвал рекорды, писатель Горький писал большой роман – а мы знаем, какой роман в это время пишет Горький, он пишет «Жизнь Клима Самгина». И надо сказать, что жесточайший шарж на Горького появляется у нас в первой главе, точнее, в предисловии от авторов во втором томе дилогии. Я всегда с наслаждением цитирую этот эпизод:
«И вдруг единообразие вопросов было нарушено.
– Скажите, – спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, – скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?
После этого он долго и сердито убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.
– Смеяться грешно? – говорил он. – Да, смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!
– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель-сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода.
– Сатира не может быть смешной, – сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустарябаптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.
Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: "А паразиты никогда!”»
Значит, кто у нас в это время пишет четырехтомный, правда, роман на тему «А паразиты никогда», а именно: об истории русской революции? Кто у нас там описывает разнообразных кустарей-баптистов, сектантов, выдавая их, кстати, за стопроцентных пролетариев? И кто в это время задумывает выход журнала «Наши достижения»? Разумеется, Горький. Сама идея: «Наши достижения», которые сменили невинный сатирический журнал «Чудак» – именно Горький первый сказал Кольцову: «Хватит сатиры! Нам нужно говорить о наших достижениях!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу