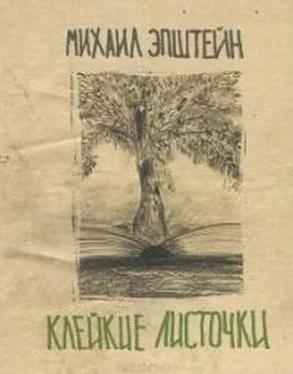нервная. То, во что живое заперто и замкнуто ключом социального ли, генетического ли кода, в котором зашифрована наша прописка и дата смерти.
Русский язык заклинателен, он больше взывает к бытию, чем сообщает мысли. Отсюда сплошная повторяемость грамматических единиц. «Рослый охотник вошел в молодую, залитую солнцем, свежо пахнущую березовую рощу». Трижды выраженное значение мужественности у охотника и пять раз выраженное значение женственности и винительности у рощи. Зачем это нагнетание одного и того же? А чтобы пробиться в бытие, не просто означить, но стать тем, что означается, обытийствовать смысл. Магия повтора, грамматика заклинания: — ую — ую — ую–ую — у.
Кажется, только в русском языке слово «ничего» означает похвалу. «А девушка очень даже ничего!» «Ничего себе домик — да это целый дворец!» «Ничего» — это как бы врожденный апофатизм самого языка, который восхваляет некий предмет отказом от его описания. «Как живешь?» — «Ничего» (что означает «неплохо»). Сказать «хорошо» русский язык стесняется, может быть, из суеверия, поэтому прибегает к «не»: «недурно», «неплохо», что в пределе дает универсальное «ничего» как выражение доброкачественности. Если живешь на постоянном минусе, то и ноль — грандиозная удача.
Я люблю слово «всё» — и не верю ему. В большинстве случаев (не во всех) «всё» или «все» — это преувеличение, за которым стоит ленивый размах мысли, брезгающей уточнениями и исключениями. «Всё радовало его…» «Всё вокруг внушало ему отвращение…» — за этим словоупотреблением стоит семантика маниакальности, мегаломании, почти психоза. Или, напротив, патологической усредненности, плоскомыслия. «Все нормальные люди знают…» «Все советские люди как один…»
«На всё кидаешь ты косой, неверный взляд. Подозревая всех, во всём ты видишь яд», — изобразил эту манию тотальности Пушкин в «Послании цензору». Но и сам Пушкин не избежал соблазна «всейности». «Всё должно творить в этой России и в этом русском языке». Что всё: поле, село, ненастье, самодержавие? Вот такая разметчивая фраза и заставляет предположить, что Пушкин и впрямь был с Хлестаковым на дружеской ноге. «Всекать» — это словесная хлестаковщина. «…Я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде» (Гоголь. «Ревизор»).
Русский язык, увы, любит походя бросаться этим словом, которое стоило бы употреблять, может быть, несколько раз в жизни, а лучше и вовсе не употреблять, чтобы избежать лжи и пустословия. Как нельзя упоминать имя Господа всуе, так и слово «всё» требует наибольшей осторожности, потому что оно, в сущности, синонимично имени Бога, но пишется с маленькой буквы и потому особенно уязвимо.
«Быть иль не быть?» — известный гамлетовский вопрос. Но есть и другой, метафизически не менее важный: быть или БЫ?
«Быть или не быть» связаны простым отрицанием, тогда как между «быть» и «бы» — отношение более глубокое. «Бы» — животрепещущая возможность, скрытая в бытии, но к нему не сводимая, рвущаяся из него, как птица из клетки. «Бы» возникает по ту сторону «быть или не быть», как общая им, кратчайшая и кротчайшая частица… То, что только возможно, может быть, а может и не быть, «бы» — их общий корень. И вот в этом трепете между «быть» и «не быть», в этом «бы», как чистой возможности, как раз располагается наш основной душевный опыт: надежда, вера, любовь, страх, сомнение… «Бы» — то острие, на котором все качается, та нить, на которой все подвешено, те дрожжи, которые оживляют всю массу бытия и весь вакуум небытия, взаимно пронзая их свежими пузырьками возможностей.
«Или да, или нет, или может быть», как говорят в Одессе. «Возможность» — глубочайшая категория народного мировоззрения. «Может быть» — и есть главное, маета и маятник, откуда уже дальше, в крайних точках остановки и поворота маятника, образуются «да» и «нет». «Да» — это только точка поворота от «бы» к «нет», а «нет» — точка поворота от «бы» к «да».
Если бы гетевский «Фауст» писался по–русски, он бы лишился одного из главных своих эпизодов. Фауст бьется над переводом первой строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». «Слово» его не устраивает своей бесплотностью, отвлеченностью. После долгих колебаний он решает: «В начале было дело». Но в славянских языках есть еще «глагол», т. е. слово–действие, слово о действии и действие словом. Eсли бы Фауст переводил Евангелие от Иоанна на русский, ему не пришлось бы ломать голову над тем, выбирать «дело» или «слово». Он бы перевел: «В начале был Глагол».
Читать дальше