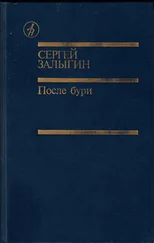В периоды «застоя» (Брежнев, Андропов, Черненко) были своеобразные попытки государства (постсталинского) искать союза с культурой — с наукой и с искусствами. Союз был искусственным, неискренним, но был — и результаты имел немалые. Может быть, даже в силу своей необычности, нестандартности. Такого рода союз не мог быть долговечным, он и иссякал, но его необычность и новизна, кажется, могли способствовать и некой новизне искусства.
Государство вкладывало в культуру средства — в науки гуманитарные поменьше, а в НТП-вские, военного значения, — очень много. Нынче, когда секреты рассекречиваются, диву даешься, какие были достигнуты тогда результаты и в фундаментальных исследованиях, и в прикладных, и в КБ. Если учесть, что в организации труда в порядке использования средств коэффициент полезного действия у нас всегда был очень низок, — удивление еще больше: это сколько же надо было средств, чтобы достигнуть?
И как бы то ни было, а срабатывал энтузиазм — он всегда будет, если достигается результат, не было апатии, даже и при искусственном взаимном доверии. Порядок взаимоотношений был довольно четкий.
Разумеется, не могло не возникнуть расхождений между людьми творчества — во МХАТе и на Таганке, между Глазуновым и Неизвестным, между Хренниковым и Шостаковичем, между Кочетовым и Твардовским. Но вот в чем дело — и разногласия эти тоже регулировались сверху уже в силу того, что и в «оппозиционерах» (поначалу даже в Солженицыне) было заложено бережное отношение к социализму — как бы ему-то, такому прекрасному и уже принявшему столько жертв, не повредить, не оскорбить его (и не вывести из себя).
Государству, которое плело заговоры по всему свету — и в Африке, и в Америке, и в Азии, — очень важно было выглядеть государством культурным, оно и выглядело, старалось, даже вопреки своим истинным интересам и намерениям. Показуха была сущностью этого государства, и она была на большой высоте, достигала некой искренности, подлинного энтузиазма, который возникал как в результате прямой государствепнной поддержки, так и в результате противостояния этому государству.
Новой русской истории не было без проблемы «интеллигенция и власть».
Интеллигент, по крайней мере в первом, разночинном поколении, был обязан быть не только оппозиционером, но хотя бы недолго — бунтовщиком. Вторые и третьи поколения уже могли стать элементарными специалистами — врачами, инженерами, учителями, юристами, но первое — ни за что!
Минуя партийную интеллигенцию (Цюрупа, Луначарский, Семашко), я наиболее отчетливо представляю себе проблему «Интеллигенция и власть нового времени» в трех беспартийных лицах: Горький, Сахаров и Солженицын. Может быть, еще и Пастернак.
Государство же и социализм представляли собою Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев.
Во времена «застоя» интеллект, интеллигенция жили богатой духовной жизнью — тихой, невнятной, но духовностью в чистоте, едва ли не в идеальной чистоте, а искусство, те же Ю.П. Любимов и А.Т. Твардовский, этой «кухонной» духовности (и вольно, и невольно) старалось соответствовать. Они ничего не достигли превыше этой удивительной кухни, но кухня считала героями их, а не себя, и такое отношение было очень плодотворным.
Нынешние «круглые столы», «симпозиумы» и «дискуссии» — жалкое подражание столам кухонным: ведь гласное и свободное слово само по себе очень много теряет перед словом тайным, несвободным.
У меня нет тоски по кухне, разве что по свободному от коммерции самиздату. Кухня была, ее не стало, она явление временное уже по одному тому, что средой ее обитания был социализм, который тоже оказался временным, значит, иначе судьба кухни сложиться и не могла.
За нынешней гласностью скрывается ничуть не меньше, чем за «железным зановесом» застоя: под знаком гласности и свободы скрыть себя, себя выдумать даже легче, чем под знаком диссидентства.
Я никогда не забываю, что я — русский (и захотел бы — не забыл). Это прежде всего значит, что неурядицы, глупости, страдания России мне ближе, чем людям нерусским. Все, что говорится о величии России, я слушаю, но сам никогда в жизни не произносил, это значило бы — хвалить себя, говорить о своем собственном величии, а кто-кто, но я-то знаю, что его у меня нет.
Нельзя располагать народы по их значению от самого высокого до самого низкого, Родина — это мать, а разве можно говорить кому-то: моя мать гораздо лучше твоей! Матерей не выбирают, матерей любят — и только, ни с кем их не сравнивая.
Читать дальше