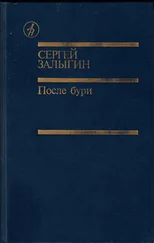Чаадаевская философия причинности, при кажущейся ее космополитичности, на самом деле от начала до конца национальна, поскольку сводит философию к судьбе России. Может быть, и все-то последующие наши философы от Константина Леонтьева до «белоэмигрантов» в Париже — Николай Бердяев, Семен Франк, Сергей Булгаков, а также Павел Флоренский, Николай Федоров, Николай Лосский — представили дело так, что Россия, ее особенности, ее судьба и есть философия. Кажется, небывалый в мире случай, а начало положил Чаадаев. Даже то, что он отказался от православия, принял католичество, дела не меняет: это в поисках все той же России, стремление увидеть ее со стороны. В христианстве, а все-таки со стороны.
Познание методов познания… Гносеология. Смысл смысла. Как бы нам не стало еще труднее жить и думать. Страшно как-то… Уж очень мы расхвастались безграничностью нашего мышления. Безграничность количественная, а — качество? Еще безнадежнее. Куда нас поведут-то — к познаниям третьего, четвертого, десятого порядка? К познанию познанием самого себя — для этого оно и дано человеку?
Те народы живут спокойнее и благороднее, которые исключают некоторые проблемы своего существования из своего сознания.
Ну, кто-там там, ученые единицы, специалисты рассуждают, однако всем остальным — это до лампочки, это не только незнакомо, но и чуждо. Философия качественно безгранична, как и вся духовная жизнь, число же ее представителей должно быть ограничено. Иначе — хана.
Уже Чаадаев уразумел науки глубже, истиннее, чем они сами себя, когда сказал: «Три открытия сообщили им толчок, вознесший их на эту высоту: а н а л и з Декарта, н а б л ю д е н и е Бэкона и небесная г е о м е т- р и я — создание Ньютона», он же сформулировал истинное, то есть ограниченное значение числа: наука забывает, «что мера и предел — одно и то же, что бесконечность есть первое из свойств», «что когда мы вкладываем в руку создателя циркуль, то допускаем нелепость». Письмо пятое, можно сказать, главу пятую того Писания, которое создал Петр Чаадаев, он открывает словами: «…Закон не может быть дан человеческим разумом самому себе точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи».
Временами в своем Писании Чаадаев — вдохновенный лирик, лиризм которого оказался слишком и субъективным, и возвышенным, чтобы дожить до наших дней, войти в нашу современность. При всей своей поэтичности Чаадаев не был поэтом, может быть, именно по этой причине он так остро нуждался в Пушкине.
«Мы растем, но не зреем, идем вперед по какому-то косвенному пути, не ведущему к цели». Но Пушкин и рос, и зрел не по годам, и шел по пути, ведущему к цели — к гармонии, и Чаадаев не мог этого не знать, не понимать.
Демократия должна признать, что демоса в ней нет: при всеобщем равенстве народ — это «все», и демократия по-русски должна называться всекратией.
Но если властвуют все, тогда — над кем? Над теми, кто не все? Кто — никто?
Демократизм — это способ поведения, общественного сознания, но не власть. Власть может быть избрана демократическим путем, но, как только она избрана, она уже не демократия.
Демократичной и демократической может быть партия, пока она не у власти. Двусмысленность демократической власти — козырь в руках любой ее правой оппозиции (и левой тоже).
У меня давно намерение: перечислить (пусть не все) случаи, когда только случай и оставил меня в живых, охранил меня. (Конечно, для тех, кто воевал, — это семечки, а все-таки).
Начну с детства. Видимо, это был 1918 год, наша семья (отец, мать и я) жили в Саткинском заводе (и держали козу для меня: козье молоко очень полезно детям. Я помню всех наших коз).
И вот проходит слух: идут красные, режут и убивают (на каких-то ближайших заводах так и было). С вечера пятнадцать-двадцать семей местных жителей, решают: женщин и детей отправить в ближайший женский монастырь.
Ночь темная, летняя, и подвод, наверное, десять или пятнадцать едут по горной дороге. Слева и где-то внизу шумит река, справа — крутые откосы. Мы едем все в гору, в гору.
Мама прикрывает меня чем-то теплым, я к ней прижался, мы, свесив ноги с телеги, дремлем. Нас, таких мам и детишек, столько, сколько может вместить телега. Кто-то говорит: вот сейчас приедем, еще один поворот, там и монастырь!
Светает…
И вдруг навстречу нам из-за того поворота грохочет телега и в темноте дикий мужской голос:
— Куда вы, куда вы? В монастыре красные — всех режут, последних дорезывают! Живой души не оставляют!
Читать дальше