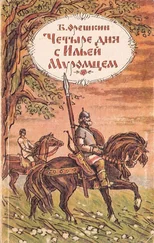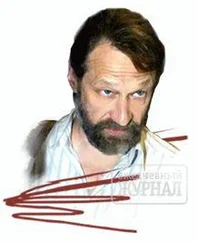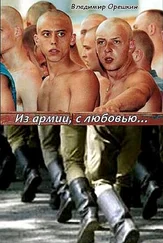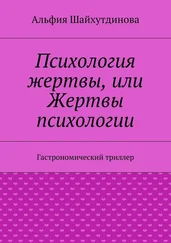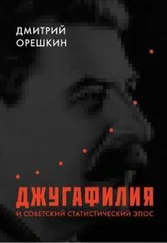Патриотическая идея насчет того, что это фашисты напечатали нам фальшивых рублей, достойна отдельного разбора. Я понимаю, как можно вбросить значительную сумму хорошо сделанных фальшивок в открытую рыночную экономику. Оформить частную сделку через подставных лиц, что-то крупное купить-продать и т. п. Но объясните, пожалуйста, как можно впихнуть в советскую экономику миллиарды фальшивых дензнаков (а именно такие суммы потребны, чтобы всерьез повлиять на денежную массу) в условиях тотального госконтроля?
Положим, заслали к нам диверсантов с тоннами рублей. Куда они с ними ткнутся, что купят? Ржавую селедку в магазине? В парикмахерской подстригутся? Уговорят знакомого кассира выдавать фальшивками зарплату трудящимся в министерстве? На углу будут выдавать всем желающим дензнаки вместе с власовскими листовками?
В Англии, положим, можно купить самолет. А помните, как Остап Бендер, получив корейковский миллион, пытался сделать это в СССР? Хотя деньги-то у него были настоящие… На фоне тотального контроля и нищего военного времени персонаж, распихивающий вокруг себя деньги, через час будет давать показания следователю МГБ…
Конечно, не было в СССР канала для объемного впрыска вражеских фальшивок. И нет нужды выдумывать такой канал, потому что фальшивки (т. е. не обеспеченные реальными стоимостями рубли) от души печатало само советское правительство. Но Паршев не был бы Паршевым, если бы обошелся без диверсантов. Абсолютный совок: с одной стороны, оправдываем родную власть, а с другой — все беды от Запада. С третьей, на уровне детского патриотического подсознания все-таки держим немцев за круглых идиотов. С чемоданами, полными фальшивых рублей. «Терпение, Штюбинг, терпение. Еще чуть-чуть, и ваша щетина превратится в золото…»
Бедняге в голову не приходит, что врагам проще и стратегически эффективней было бы печатать фальшивые талоны на продукты. Талоны, а не рубли были реальной основой жизни в сталинском и ленинском СССР. Потому что они, в отличие от деревянных рублей, были действительно привязаны к объему имеющихся продуктов. Неполноценные социалистические эрзац-деньги всегда нуждаются в костылях, подпорках, заменителях и ограничителях — будь то талоны, разделение на «наличную» и «безналичную» ликвидность с запретом менять одно на другое, чеки в «Березках», «инвалюта» и т. д.
Эх, климат, климат!
Воистину, образ мира в совковом сознании — тема для Гоголя или Данте. Хотя в конечном счете получается, что круглыми идиотами выходят читатели. В сталинской экономике, как убежденно пишет А.П. Паршев, умные плановики столь точно считали балансы спроса и предложения, что количеству рублей всегда идеально соответствовало количество произведенных товаров… Ну, коли такова сила неизбывного экономического патриотизма, то для объяснения десятикратного (тринадцатикратного?) расхождения денежной массы и товарного покрытия действительно не обойтись без Гитлера.
Но мы-то с вами, уважаемые читатели, здесь причем?
Как причем? Наше собачье дело верить. Кто не верит, тот клеветник и пособник фашистов. Экстремист.
С другой стороны, что остается бедному совку делать в углу, куда он сам себя загнал? Не может же он честно признать, что своему народу за десятилетия крестных мук и чудовищного труда советское государство платило фантиками. Талонами, обязательными лотереями, облигациями, займами, деревянными рублями и прочими суррогатами. Да и те раз в 10–15 лет меняло, чтобы спалить накопившиеся на руках запасы. После чего, освободив экономику от груза пустых бумаг и убив частные накопления, бывало, и цены снижало — чтобы вскоре снова постепенно поднять за счет печатного станка. Это же так просто и понятно.
Очередной цикл обнуления советских денег проводит уже Хрущев в самом начале 60-х. Снова это называется денежной реформой, а на самом деле является скрытым дефолтом. Правительство отказывается от взятых перед народом обязательств по товарному обеспечению напечатанных бумажек. Народ безмолвствует. Экономика кряхтит. Климат, каналья, творит, что хочет. Рыночный и конкурентный Запад меж тем быстро развивается…
Передышка, связанная с открытием нефтегазового Клондайка в Сибири, позволила советскому рублю с грехом пополам дохромать до конца 80-х. Он, конечно, дешевел, но не так катастрофично, как в сталинские и ленинские годы. Процесс иллюстрируется историей стандартного советского продукта, служившего основой потребительского сектора. В конце 60-х бутылка водки стоила 2,87 рубля. В начале 70-х 3,62. Потом 4,12. В 80-х годах 8 рублей с чем-то, а затем ценники начинают мелькать так быстро, что совершенно неизбежным выглядит тихий дефолт последнего советского премьера Павлова, который отказался принимать к оплате им же напечатанные пятидесяти- и сторублевки.
Читать дальше