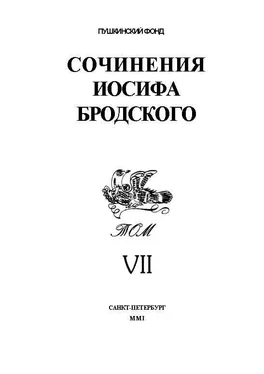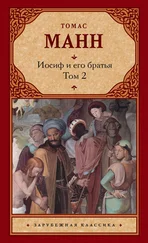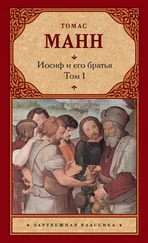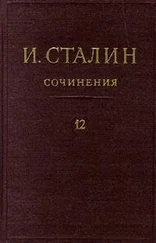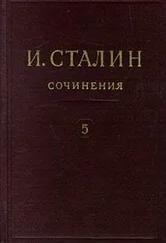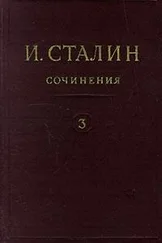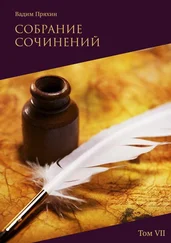Если мы примем способ, которым действовали вышеупомянутые шесть авторов, за норму (то есть способ их мышления, если не манеру поведения их героев, хотя неплохо бы принять и то и другое), мы немедленно получим как минимум два преимущества. Во-первых, это избавит нас от выискивания трудности и тем более не даст прельститься ею как необходимой предпосылкой великого современного произведения, поскольку сложность человеческой души, так же, как и выражение этой сложности, имеет естественные пределы, за которыми простирается либо безумие, либо претенциозность — то есть за которыми это выражение становится нечленораздельным. Во-вторых, это может избавить нас от потребления в больших количествах имеющейся продукции, интеллектуально и стилистически' не затронутой достижениями модернистов. Короче, приняв эту норму, мы в наших литературных оценках будем исходить из минимальных требований уплотнения и сжатия модернистских приемов, а не их разжижения. Ибо именно так развивается культура в целом и литература в частности. Если вам нужна иллюстрация, подумайте об эволюции греческой драмы в Александрийскую пастораль. Или подумайте — ибо это великие дни южноафриканской литературы — о Дж. М. Кутзее, одном из немногих, если не единственном прозаике, пишущем по-английски, который целиком воспринял Беккета. Кроме него, кроме Томаса Бернхарда и горстки писателей новой волны, к норме — то есть к большой литературе нашего столетия — все относились как к аномалии, и сегодня мы обсуждаем последствия.
Мы не можем своим желанием вызвать большую литературу к жизни, но трудно не отвернуться с отвращением от склизкой грязцы посредственности. Это трюизм, что без последней мы не получим первой, и этот трюизм, поддерживающий рынок на плаву, представляет собой оправдание среднего автора на Страшном суде. Однако пропорция, которая придает этому трюизму убедительность, по-видимому, давно уже нарушена, что явствует из посмертного восхваления всех подряд посредственностей и списания со счетов провозглашенных трудными модернистов (чья трудность, впрочем, на руку академическим толкователям). Я никак не могу взять в толк, почему столько писателей (возможно, кроме русских, ибо они на полвека были отрезаны от хода современной литературы) могут продолжать писать, как если бы Пруст, Кафка, Музиль, Фолкнер и Беккет никогда не существовали. Потому что они были в меньшинстве?
Это большая загадка, не правда ли? О, все эти романы с предпосланными им восторженными рецензиями и пересказами, вращающимися вокруг всеохватного предлога «о». О спорах отцов и детей, о супружеских разногласиях, о политических притеснениях, о расовых трениях, о кризисе личности, об опыте, раскрывающем глаза на жизнь, о сексуальных неопределенностях или неопределенных сексуальностях, о смутной ностальгии, о мифо-маниакальной этнической специфике, о социальной несправедливости, о проблемах больших городов, о сельских добродетелях, смертельных болезнях. Мастерски закрученные сюжеты, доскональное знание — часто из первых рук — реалий, хороший слух на просторечие, простой, ненавязчивый синтаксис. По мере того как общество погружается все глубже и глубже в невнятность, эти произведения всплывают на поверхность в виде его интеллектуальных буев, требуя, чтобы их возвели в ранг маяков.
Эти романы так же взаимозаменяемы, как и изображаемые ими нравственные альтернативы (ибо речь непременно о нравственном выборе, да?); так же одинакова и их смутная стоическая идея: нечто вроде «Несмотря на все это, человек должен...» — пропуск вы можете заполнить сами, ибо развязка или кумулятивный эффект всего этого атавистически возвращается к проповеди. (Жалкий остаток хороших манер — чем иначе мог бы я похвастать — удерживает меня от называния имен, но пропуск вы опять же можете заполнить самостоятельно; или, последовав моему примеру, сэкономить время.) И наоборот: почти каждый разговор о литературных достоинствах того или иного произведения вскоре вырождается в разговор об их моральной подоплеке.
Так происходит, поскольку в этой области все специалисты. А специалистами в этой области оказываются все, поскольку любая человеческая позиция сомнительна почти по определению. Кроме того, сомнительным это положение делает как раз моральная убежденность, уверенность, которая рождает у индивидуума или общества чувство морального превосходства. Осмелюсь сказать, что корнем всех бед является ощущение, что ты лучше другого. И если сводить произведение искусства — на стадии его создания или при разборе его достоинств — к этическому диагнозу, то это приводит к поискам такой уверенности, к некоему нравственному дарвинизму о очень неприятными последствиями для слабейшего. И не упакована ли уже наша этика в наши законы и/или общественные договоры?
Читать дальше