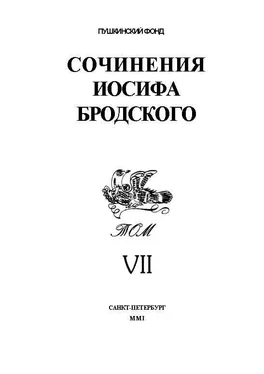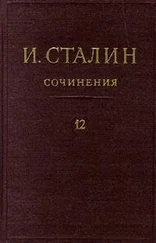Пусть автор не посетует на вышеизложенные пожелания. Фантазии вроде этой естественны при чтении собранных здесь стихотворений — при чтении с другой стороны земли. Пишущему это предисловие представляется, что опыт пережитого, накопленный в этих стихотворениях, может разрешиться только преодолением биографии и обретением тональности, родственной тональности ахматовских «Северных элегий». Более того, пишущий это предисловие должен признаться, что он предается этим фантазиям не только на счет Рейна, но и на свой собственный. Это объясняется не столько тем, что потерянный рай Рейна как две капли воды похож па потерянный рай автора предисловия, сколько сходством его и рейновского рая обретаемого. Если он, этот рай, существует, то существует и возможность того, что автор этой книги и автор предисловия к ней встретятся: преодолев свои биографии. Если нет, то автор предисловия останется во всяком случае благодарен судьбе за то, что ему удалось на этом свете свидеться с автором этих стихотворений под одной обложкой. Это немало. Их, стихотворений этих, физическое соседство с текстом этого предисловия является если и не торжеством справедливости, то, во всяком случае, внятной метафорой их неотделимости — на протяжении более чем в четверть века — от сознания автора этого предисловия. То, что их разделяет,— менее, чем страница.
1991
ПО КОМ ЗВОНИТ ОСЫПАЮЩАЯСЯ КОЛОКОЛЬНЯ
Доклад на юбилейном Нобелевском симпозиуме в Шведской академии 5-8 декабря 1991 года
Поскольку у времени, видимо, нет иной возможности, кроме как проходить, и поскольку люди, кажется, обречены измерять его ход, этот день, возможно, не хуже любого другого, чтобы окинуть взором двадцатое столетие, в особенности то, что произошло в литературе. У столетия, конечно, еще есть в запасе лет восемь, а наш мир населяется все гуще и гуще — так что, строго говоря, существует, по крайней мере, математическая вероятность, что за остаток века случится какое-нибудь экстраординарное литературное событие. Припишите тогда наше желание подвести черту сейчас пренебрежению к статистике или внезапно вспыхнувшему эсхатологическому страху, который в любом случае стоит за миллени-аристскими ожиданиями; всегда приятнее поразмышлять над перспективой крушения мира, нежели над собственной кончиной.
Соответственно, этот обзор будет столь же личным и субъективным, сколь и преждевременным. Нет смысла открывать рот, чтобы огласить чужое мнение, если, конечно, это мнение не абсолютная истина. Но я не священник. При моем роде занятий субъективность и пристрастность — дело привычное, и единственное, что я могу в данных обстоятельствах,— это продемонстрировать их еще раз. В конце концов, те, о ком пойдет речь, обедали, так сказать, за тем же столом, хотя и пороскошнее. Однако, приступая к этому обзору, я ни в коей мере не собираюсь равнять себя с ними, но и не отделяю себя от них.
В этот зимний день в конце первого года последнего десятилетия двадцатого века я вглядываюсь в наше столетие и вижу шесть замечательных писателей, по которым, я думаю, его запомнят. Это Марсель Пруст, Франц Кафка, Роберт Музиль, Уильям Фолкнер, Андрей Платонов и Сэмюэл Беккет. Их легко различить с такого расстояния: они вершины в литературном пейзаже нашего столетия; среди Альп, Анд и Кавказских гор литературы нынешнего века они настоящие Гималаи. Более того, они не уступают ни дюйма литературным гигантам предыдущего века — века, установившего планку.
Нет, как раз наоборот. Эти писатели на самом деле больше, отчасти потому, что они начали там, где остановился роман девятнадцатого века, хотя главным образом потому, что им пришлось иметь дело с гораздо более неблагоприятными условиями, чем те, с которыми человек и литература сталкивались прежде в своей истории. Литература в конечном счете есть хроника того, как накапливаются неприятности и как человек противостоит им. И возможно, одной из граней величия вышеупомянутой шестерки явилось то, что они, кажется, были последними, кто пытался запечатлеть квантовый скачок человеческих неприятностей в точном и внятном слове. Потом пришли сюрреализм и социология.
Но это в скобках, поскольку провалившиеся попытки сказать правду о человеческом положении бесконечны в своем разнообразии. За скобками — мы сами, занятые не столько поиском истины, сколько обнаружением некоего общего знаменателя, связующего великолепную шестерку,— конечно, задним числом. Но появление эстетического критерия, не говоря уж о его применении, дело всегда запаздывающее. То, что мы нуждаемся в нем сейчас, совершенно очевидно, если мы не собираемся держать современную литературу, а также литературу будущего (по крайней мере, остатка нашего столетия) заложницей стандартов предыдущего века. Свидетельств нашей сыновней почтительности к этому отцу романа имеется в избытке, как мы могли здесь убедиться. Осмелюсь сказать, этот зал преисполнен ею.
Читать дальше