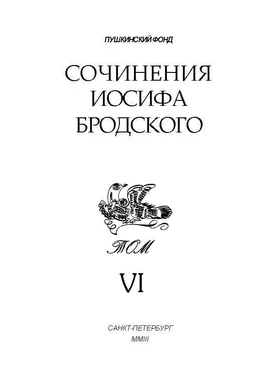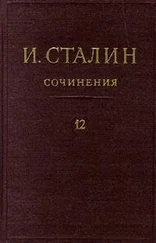5
Наиболее определенная черта античности — наше в ней отсутствие. Чем доступней ее обломки и чем дольше вы на них таращитесь, тем решительнее вам отказывают во входе. Лучше всего вас отрицает мрамор, хотя бронза и папирус не слишком ему уступают. Дойдя до нас целиком или во фрагментах, эти вещи поражают, конечно же, своей долговечностью и искушают нас, особенно осколки, собрать их в связное целое — но им и не предназначалось дойти до нас. Они были и до сих пор остаются сами по себе. Ибо человеческая потребность в будущем так же ограничена, как и его способность поглощать время, что, например, демонстрирует грамматика, эта первая жертва всякого рассуждения на тему о грядущем. В лучшем случае эти мраморы, бронзы и папирусы предназначались для того, чтобы пережить свои модели и своих творцов, но не самих себя. Их существование было функционально, иначе говоря, имело ограниченную цель. Время — не осколки калейдоскопа, ибо состоит из преходящих частей. И хотя, возможно, идея загробной жизни была внушена предметами, до недавнего времени ее не рассматривали как доступный вариант. Как бы то ни было, перед нами следы необходимости или тщеславия, то есть соображений всегда близоруких. Ничто не существует ради будущего, и древние, естественно, не могли считать себя древними. И нам не следует объявлять себя их завтрашним днем. Мы не будем впущены в античность: она и так была густо заселена, в сущности, перенаселена. Свободных мест нет. Нечего курочить суставы, колотясь в мрамор.
6
Жизнь римских императоров кажется нам чрезвычайно увлекательной, ибо мы сами чрезвычайно увлечены собой. Мы мыслим себя, мягко говоря, центрами своих собственных вселенных, безусловно, разных по величине, но все-таки вселенных и, в качестве таковых, имеющих центры. Разница между империей и семьей, вереницей друзей, паутиной романтических связей, областью профессиональных знаний и т. д. — разве что в объеме, но никак не в структуре. Кроме того, потому, что цезари так удалены от нас во времени, сложность их положения кажется понятной, поскольку время как бы сокращено перспективой двух тысячелетий почти до масштабов детской сказки со всеми ее чудесами и наивностью. Их империи — это наши записные книжки, особенно вечером. Мы читаем Светония, Элия или Пселла в поисках архетипов, даже если все, чем мы управляем, всего лишь велосипедная лавка или семья из двух домочадцев. Почему-то легче отождествить себя с Цезарем, чем с консулом, или претором, или ликтором, или рабом, даже если это больше соответствует нашему настоящему положению в современной реальности. Объясняется это отнюдь не сам возвеличиванием или амбициями, но очевидной притягательностью укрупненных, выпуклых образцов скомпрометированной добродетели, порока или самообмана, а не их невнятных, косноязычных носителей по соседству или, коли на то пошло, в зеркал" Вот почему, возможно, мы разглядываем их подобия, в особенности мраморные. Ибо в конечном счете вместимость человеческого овала ограниченна. Не более двух глаз, не менее одного рта; сюрреализм еще не был изобретен, и африканские маски еще Не вошли в моду. (Впрочем, может быть, и вошли, и именно поэтому римляне так цеплялись за греческие эталоны.) Так что в конечном счете вы неизбежно признаете себя в одном из них. Ибо не бывает цезаря без бюста, как не бывает лебедя без отражения. Бритые бородатые, лысые или хорошо причесанные, они все отвечают тебе пустым, лишенным зрачков мраморным взглядом, подобно паспортной фотографии или полицейскому снимку преступника Вы не поймете, что они замышляли; и наложение этих лиц на их истории и делает их, возможно, архетипами. К тому же это несколько приближает их к нам, ибо, будучи изображаемы довольно часто, они, без сомнения, научились относиться к своей физической реальности до некоторой степени отстраненно. В любом случае бюст или статуя для них являлись тем же, чем для нас фотография, и наиболее «фотографируемым» лицом, очевидно, оказывался цезарь. Были, конечно, и другие: их жены, сенаторы, консулы, преторы, знаменитые атлеты и красавицы, актеры и ораторы. В целом, однако, судя по тому, что уцелело, мужчин ваяли чаще, чем женщин, из чего можно сделать вывод о том, кто контролировал кошелек и определял этос. По обоим показателям цезарь был вне конкуренции. В Капитолийском музее вы можете часами шаркать по залам, битком набитым мраморными портретами цезарей, императоров, диктаторов, августов, свезенными сюда из мест, когда-то им подвластных. Чем дольше таковой оставался на посту — тем многочисленней «фотографии». Его изображали в молодости, зрелости, дряхлости; иногда бюсты разделяют от силы два года. Кажется, что мраморное портретирование было промышленностью, а судя по разнообразию степеней распада — промышленностью похоронной; в конце концов эти залы начинают представляться подобием библиотеки, заставленной многотомной энциклопедией обезглавливания. «Чтение» ее, однако, затруднено, так как мрамор знаменит как раз своей непроницаемостью. В некотором смысле с фотографией — или, точнее, с тем, чем фотография была, — его роднит еще и то, что он абсолютно монохромен. Прежде всего, он представляет всех белокурыми. Тогда как в жизни некоторые из моделей — жены цезарей, по крайней мере, ибо многие из них происходили из Малой Азии, — блондинками не были. Однако мы почти благодарны мрамору за отсутствие в нем пигментации, как мы благодарны черно-белой фотографии, ибо она дает волю нашей фантазии, нашей интуиции, так что рассматривание становится актом соучастия, подобно чтению.
Читать дальше