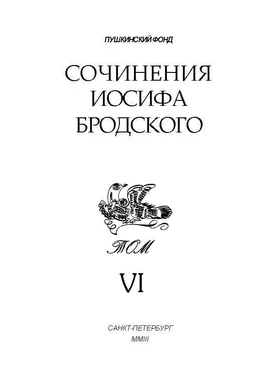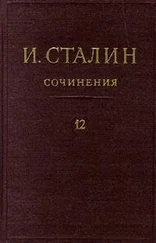7
И действительно, существуют способы превратить рассматривание в чтение. Мальчиком в родном городе я часто ходил в большой музей. В нем была огромная коллекция греческой и римской скульптуры, не говоря уж о мраморе Кановы и Торвальдсена. Я заметил, что в зависимости от времени дня, а также и времени года лица изваяний принимали разные выражения, и мне было любопытно, как они выглядят после закрытия. Но музей закрывался в шесть — вероятно, потому, что мраморные скульптуры непривычны к электричеству. Делать было нечего. Да и что вообще мы можем сделать со статуями? Можно кружить около, щуриться на них под разными углами, но и только. Бюсты, однако, допускают больше вольностей, что я обнаружил случайно. Однажды, глазея на белое личико некоей раннеримской fanciulla [32] Девочка (итал.).
, я поднял руку, наверно, чтобы пригладить волосы, и таким образом преградил путь свету, который падал на нее с потолка. Выражение ее лица сразу изменилось. Я отвел руку немного в сторону: оно снова изменилось. Я принялся довольно лихорадочно двигать обеими руками, отбрасывая всякий раз новую тень на ее черты: лицо ожило. В конце концов мое занятие прервали крики смотрителя. Он бежал ко мне, но его искаженное лицо представилось мне менее одушевленным, чем черты маленькой мраморной девочки, родившейся до P. X.
8
Из всех римских императоров Марк Аврелий имеет наилучшую прессу. Историки его любят, философы тоже. Именно последний Марк Аврелий обязан хорошей репутацией и поныне, ибо эта наука оказалась долговечней Римской империи или талантов ее правителей. Вообще-то историкам следовало бы быть менее восторженными на его счет, потому что несколько раз он вплотную подошел к тому, чтобы лишить их науку предмета; в частности с назначением своего сына, совершенного идиота Коммода, наследником. Но историки — публика крепкая; они усваивали вещи и более непереваримые, чем идея Коммода переименовать Рим в свою честь. Они вполне могли бы ужиться с Коммодополем на карте и даже в нем самом и изучать историю Коммодовой империи. Что до философов, они были — а некоторые и до сих пор — очарованы «Размышлениями» Марка Аврелия, возможно, не столько из-за глубины и проницательности, сколько из-за респектабельности, которую сама дисциплина приобрела от царственного прикосновения. Политика гораздо чаще является занятием философов, чем философия — увлечением государей. К тому же для Марка Аврелия философия была больше чем увлечением: она была, как мы бы сказали сегодня, терапией или, как выразился позднее Боэций, утешением. Марк не был великим философом, не был он и провидцем, ни даже мудрецом; его «Размышления» — одновременно грустная и полная повторов книга. Доктрина стоиков к тому времени уже в самом деле стала доктриной, и хотя он писал по-гречески, до Эпиктета ему далеко. Весьма вероятно, что, как и любой римский император, он предпочел этот язык из уважения к происхождению доктрины, а также, возможно, из ностальгии по языку цивилизованного общения; в конце концов это был язык его юности со свойственными ей более возвышенными стремлениями. Прибавьте к этому, если угодно, возможные соображения секретности и преимущества отстранения, которое есть цель и метод самой дисциплины и усилено в данном случае языком. Не говоря уж о том, что его правление просто совпало со значительным возрождением в Риме греческой культуры, первым, если угодно, Ренессансом, несомненно, благодаря длительной эпохе прочной стабильности, которую историки окрестили «Pax Romana». И историки любят Марка Аврелия именно потому, что он был последним хранителем этого Pax. Ибо его правление фактически четко завершило период римской истории, длившийся почти два столетия, начавшийся с Августа и во всех отношениях закончившийся с нашим героем. Они любят его, потому что он последний в ряду, и притом весьма внятный, что для историков — роскошь. Марк был исключительно совестливым правителем, возможно, потому, что был назначен, а не помазан на царство, поскольку он был принят в династию, а не родился в ней. И историки, и философы любят его именно за то, что он так хорошо выполнял обязанности, к которым считал себя малопригодным и которые действительно принял неохотно. Для них его положение, вероятно, отражает некоторым образом их собственное: он как бы является образцом для тех, кому в этой жизни приходится идти против своего призвания. Во всяком случае, Римская империя приобрела гораздо больше от его двойной верности долгу и философии, чем доктрина стоиков (которая, в свою очередь, пришла с Марком к своему завершению — этике). Недаром высказывалось мнение, и часто очень решительно, что внутренний конфликт такого рода — хороший рецепт для власти. Что лучше, если духовные искания правителя имеют собственный выход и не слишком мешают его действиям. Не в этом ли суть всей истории с царем-философом? Когда вашей метафизике не дают разгуляться. Что касается Марка, он тем не менее страшился этой перспективы с самого начала, боялся быть вызванным ко двору Адриана, несмотря на все его услады и блестящие виды на будущее. Возможно, именно из-за них; истинный продукт греческой доктрины, все, чего он желал, — это «простое ложе, шерстяной плащ». Философия для него была манерой одеваться настолько же, насколько она была манерой рассуждения: тканью существования, не просто умственным занятием. Представьте его буддийским монахом; вы не слишком промахнетесь, поскольку «образ жизни» был сутью также и Стой, собственно, в нем вся суть и была. Юный Марк, должно быть, настороженно относился к усыновлению императором не только из-за сексуальных предпочтений Адриана: это означало гардероб столь же отличный, сколь и сопутствующая ему духовная пища. То, что он пошел на это, было связано, как представляется, не столько с давлением на него императора, сколько с собственными сомнениями нашего героя относительно своей интеллектуальной выносливости: очевидно, что легче быть государем, чем философом. Во всяком случае, это произошло, и вот памятник. Вопрос, однако: кому? Философу? Или царю? Обоим? Возможно, ни тому, ни другому.
Читать дальше