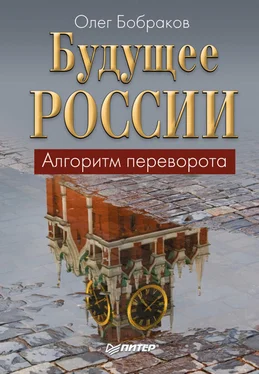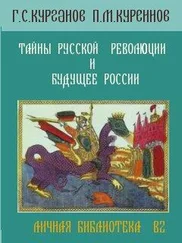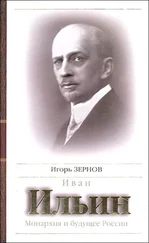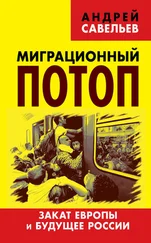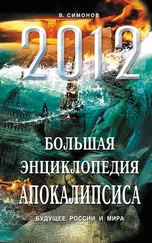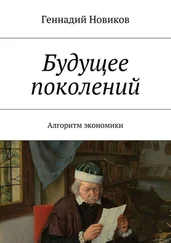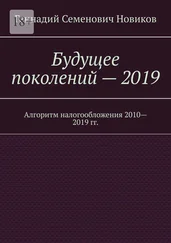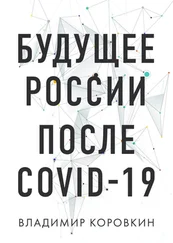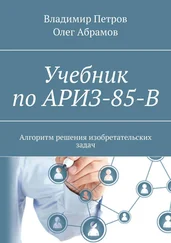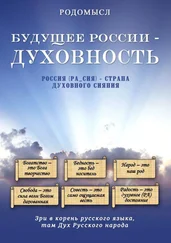А ведь в бою требуются совсем иные качества. Нужен воин, которого уважает даже злейший враг. В середине 60-х годов в Киевском высшем инженерно-авиационном военном училище появился необычный слушатель. Звание – подполковник (в отличие от рядовых и их курсовых командиров – лейтенантов и капитанов). На груди – ленточка ордена Красного Знамени. Прибыл он из Закавказского военного округа. Со временем выяснилось, что нашу южную воздушную границу повадились нарушать базирующиеся в Турции американские разведчики. Тихоходные и маневренные, они пересекали границу, делали аэрофотосъемку и записывали радиочастоты наших средств ПВО. Они кружились около границы, не углубляясь на нашу территорию, а при появлении советских истребителей разворачивались, что называется, «вокруг крыла» и уходили в безопасную, как они считали, зону.
При одном из таких нарушений подняли дежурное звено, ведущим в котором был таинственный подполковник. С первого раза точно навести звено на цель не получилось. Американец привычно развернулся, а радиус разворота нашего Су составлял около 50 километров. Когда наш перехватчик совершил повторный заход, нарушитель уже был в Турции. И тогда советский летчик сделал то, что не предписано инструкциями, но чего требовал от него воинский долг. Никому не докладывая, он пересек государственную границу и устремился за уходящим воздушным разведчиком. Обломки вражеского самолета посыпались чуть ли не на Стамбульский рынок. Наш самолет благополучно вернулся на базу. И надо же такому быть: никакой широкой огласки, никакого дипломатического шума со стороны американцев не последовало. Мало того, нарушения границы на этом участке прекратились. Силу и твердую волю к действию уважают и враги.
Вот еще один малоизвестный, но показательный эпизод. Во время событий 1968 года разведка доложила о намерении западных держав ввести войска на территорию Чехословакии из ФРГ. Танковый корпус из состава Группы советских войск в Германии получил задачу воспрепятствовать такому развитию событий. Надо было перекрыть границу Чехословакии с ФРГ. Но как это сделать с территории ГДР? Расчеты показывали: если танкистам отходить к восточным границам ГДР, потом через Польшу вводить корпус в Чехословакию с севера и далее двигаться к ее западной границе, то дорога займет около недели. К встрече натовцев на чешской границе можно не успеть, и боевые действия придется вести на территории союзного государства.
Тогда командование корпуса приняло невероятное, но единственно возможное решение. Танки выдвинулись к границе ГДР и ФРГ, пока западные разведки размышляли, что бы это означало, рванули вперед, снесли шлагбаумы на границе и форсированным маршем двинулись по западногерманским автобанам. Говорят, руководители США и ФРГ, получив соответствующие доклады, лишились дара речи, а когда пришли в себя, советские танки, благополучно преодолев десятки километров немецкой территории, уже вошли в ЧССР с запада, развернулись на 180 градусов и заняли оборонительные позиции, будто они здесь и стояли. Нетрудно представить, какую реакцию это вызвало у наших вероятных противников. Но что интересно, в списке чешских событий, в которых тогда обвинялся Советский Союз, упоминаний об этом эпизоде не было. Очень уж не хотелось западным политикам признавать свое бессилие!
Однако все это было в 60-х годах, когда в армии еще были сильны сталинские традиции, когда не произошел еще развал государства и демонтаж его вооруженных сил. Совсем по-другому разворачивались события позже, особенно в 80-х годах. И в первую очередь повинно в этом высшее политическое руководство страны.
Вспомним половинчатую «афганскую» политику, когда войска по-настоящему гибли, выполняя приказ, а пресса сообщала, будто они занимаются исключительно боевой учебой и охраной самих себя. Истинные герои оставались неизвестными, а по возвращении на Родину встречали косые взгляды соотечественников: мол, мы вас туда не посылали. Повторялся «пражский синдром», когда армия, блестяще выполнив задачу, поставленную перед ней политическим руководством, дома стала козлом отпущения в глазах размножившихся «демократов» и «правозащитников».
Или возьмем случай с тем же Сахалином. Южнокорейский «Боинг», на сотни километров уклонившийся от маршрута, проникший в наше воздушное пространство и не отвечавший на предупредительные сигналы советской ПВО, четыре часа кружил над нашими стратегическими объектами. Когда наконец его сбили, реакция руководства страны в лице Андропова была диаметрально противоположной той, что последовала бы в 1952 году. Вместо вручения летчикам наград, началось бесконечное разбирательство с неясными выводами. Это не могло не сказаться на будущих действиях защитников воздушных рубежей страны, на их твердости и решительности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу