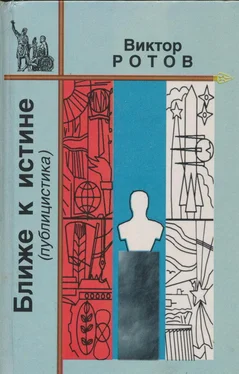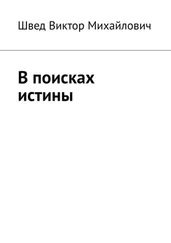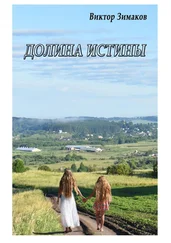— Как это? — не поверил Павел.
— А так. Тайком вырыли под бараком подвал. Землю, говорят, выносили с зоны в трусах и бюстгальтерах. Оборудовали «хату» по всем правилам — кровать, разные там удобства. Жратвы туда всякой добыли. Откормили сержанта и вообще питали его хорошо, и по очереди к нему «на прием». И так три года! И никто ни мур — мур, шито-крыто. И если б бабы не перессорились между собой, и одна из них не ляпнула бы на поверке, то и по сей день того сержанта искали бы наши доблестные органы. Говорят, когда его освободили из этого «плена», он сильно расстроился: зачем? — очкарик гоготнул звонко. — Еще бы! Тёлок целое стадо. И каждый день новая…
Посмеялись. Павел с Артемом многозначительно переглянулись через плечо. Артем даже вздохнул завистливо. Зажмурился, вспоминая, видно, нечто из своей жизни. Посетовал на судьбу: «Эх, жизнь наша — ржаная каша!..» И поведал вполголоса:
— Была у меня одна. Массажистка! Даже на сборы со мной ездила. Крепенькая такая! Бывало, как пойманная рыба, не удержать в руках. Одно слово — массаж! А перед рингом, за три дня до выступления, — ни — ни. И близко не подпускала. Только перед самым выходом на ринг приходила в одном халатике на голое тело. Распахнется передо мной, даст себя потрогать, поцеловать и… Все! Ух, я потом работал на ринге!..
На ужин дали треску с перловкой. В честь отплытия, что ли? Объедение! На третье был компот из сухофрук
тов. В нем, смеялись политические, конвой ноги вымыл. И правда, это было препаскуднейшее питье!..
Кажется, отправились. Дробно грохотнула якорная цепь, раскатисто гукнул пароход.
Уголовники, кажется, угомонились. При свечах и плошках режутся в карты, в двадцать одно. Марухи из‑за перегородки дрочат их сальными репликами. Урки гогочут и не скупятся на ответные афоризмы. Тоже с картинками.
Павел долго примерялся, как ему лучше сесть. Наконец уселся. Стал подремывать и незаметно уснул. Ему приснилась голая степь, а над степью тучи птиц. И такой птичий грай стоит, что в ушах щекотно. Открыл глаза, а в трюме что‑то невообразимое. Светло от множества свеч и плошек, остро пахнет спиртным и тройным одеколоном. В воздухе качаются облака табачного дыма. И крики, женский визг, яростная матерщина и, что самое интересное, — нет перегородки. А в темный квадрат трюмного люка заглядывает полная луна. Чудеса да и только!
Деловой очкарик, блестя стеклами очков в сторону свалки на месте бывшей перегородки, заметив, что Павел проснулся, недоуменно прокричал ему: «И где что взяли?! Папиросы, водка, свечи!..»
Все деловые и репатриированные стояли почему‑то на коленях и всматривались поверх голов впередистоящих туда, где была куча мала.
— Что происходит?! — Павел хотел встать на ноги, но его осадили задние — на колени, а то не видно за тобой…
Артем повернулся к нему.
— Гля! Урки охренели. Перегородку сломали и гуляют. А затеяли бабы. Какая‑то Машка Семенова бузатёрит. Теперь пошли на палубу конвой разоружать. Отчаюга!..
— Не радуйся особенно, — повернулся к Артему бритоголовый с козлиной бородкой. — За этот их бунт всем нам намотают еще лет по пять.
— Эт точно! — подтвердил очкарик. — Надо бы остановить, урезонить…
— Надо бы, но как?
— А вот так, — поднялся с колен бритоголовый. — Кто со мной?
— Я пойду, — отозвался мужик борцовского вида.
— И я!
— И я!..
Набралось человек семь. Держась друг за друга, они двинулись к сходням трюма. Теперь только Павел заметил, что корабль сильно болтает. Видно, шторм.
Артем покопался в своих шмотках, что‑то вынул оттуда, сунул в карман брезентухи и ринулся следом за мужиками, решившими урезонить бунтующих.
Что там было наверху, Павел не ведал, а потому жадно прислушивался к тому, о чем гомонили здесь, в трюме. По сходням — почти непрерывный поток людей туда и обратно. А здесь крики, суета, беготня. В трюме стало заметно свободнее. Было такое впечатление, что часть зеков поднялась на палубу. Как? Почему? Ведь за нарушение режима!.. Корабль сильно качнуло. В дальнем углу повалился импровизированный стол, на котором стояли бутылки, горела свеча, а вокруг толпились болельщики картежников. Тут и там мелькали женские головы. У некоторых прически, сияющие радостно глаза. Недалеко от Павла, в затемненном уголке между шпангоутом и корпусом, урка в тельняшке по кличке Полосатый тискал маруху. Она пьяно висла на нем. В разноголосом звенящем гомоне почему‑то четко выделялись ее слезные причитания: «Милый, я твоя! Я вся твоя. Бери меня, милый, покрепче. Ах, как хорошо!..»
Читать дальше