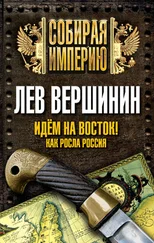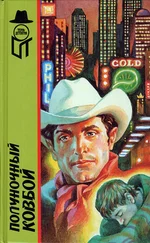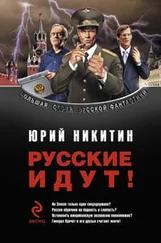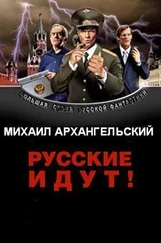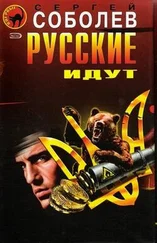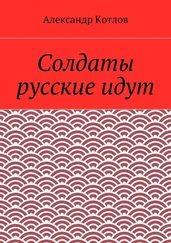Армения, однако, оказалась еще более особой: мечта большевиков о единстве партии с народом здесь, по ходу испытания последних пяти лет, уже воплотилась в жизнь, неотъемлемо вобрав в себя третий компонент – армию, по праву считавшуюся заступницей, надеждой и опорой. Большевиков терпели, не более того, но в случае чего неприятности могли оказаться куда большими, нежели в других, менее социально монолитных краях. Благо организовать и повести за собой недовольных очень даже было кому. Поделившись с Москвой столь непростой заботой, Ревком получил рекомендацию: потенциально опасные элементы изъять и вывезти на фиг, лучше всего в Азербайджан, а куда дальше, видно будет. Идея понравилась. Правда, начинать массовые аресты не решились – вояки все-таки не партийные говорилки, тут шаг влево, шаг вправо может дорого стоить. Крепко подумав, власти решили повторить знаменитую «крымскую шутку», и в середине января 1921 года около 3000 офицеров и унтеров получили учтивейшие приглашения принять участие в совещании по вопросам военной реформы. Кто-то не поверил, однако большинство спросило совета у любимого главкома, генерала Назарбекова, а Фома Иванович, генерал царской еще закалки, сказал, что пойдет обязательно, потому что долг военного помогать законным властям, тем более что военная реформа и впрямь назрела. С совещания домой не вернулся ни один. Однако и в Баку отправили не всех. Несколько десятков офицеров, внесенных в особый список АрмЧК, как «злостные враги революции», а также отличившихся в войнах за «спорные» территории (по настоянию азербайджанских товарищей) и «полевых командиров» из Западной Армении (это уже по просьбе турецких коллег), были без всякого суда, в рамках «революционной целесообразности» казнены в ереванской тюрьме. При этом, чтобы не будоражить недружелюбный город расстрельной какофонией, обреченных, выведя во двор, зарубили топорами. В присутствии, а говорят, что и при участии главы Ревкома, товарища Саркиса Касьяна и военного министра АрмССР, товарища Аиса Нуриджаняна (к слову: обнаружив эти славные имена в списке невинно репрессированных, я в очередной раз тепло вспомнил Иосифа Виссарионовича).
И это был перебор. Аресты арестами, высылки высылками, грабежи грабежами, но разделка заживо людей, которым едва ли не половина населения считала себя обязанной жизнью, взорвала котел. Уже в конце января в труднодоступной горной глубинке начались стихийные мятежи, пока еще легко подавляемые, но пугающе частые. К началу февраля отдельные очаги начали сливаться в повстанческие зоны. Тогда же агентура ЧК донесла Ревкому о существовании в столице межпартийного подпольного штаба, готовящего массовое восстание. Пытаясь взять ситуацию под контроль, Ревком объявил, что «классовый враг будет беспощадно уничтожен», и 9—12 февраля провел массовые аресты всех хоть сколько-то заметных лидеров дашнаков, в основном не имевших к подполью никакого отношения. Что стало очередной, последней ошибкой. За оружие взялись все, кто до тех пор еще сомневался. Всего за четыре дня под контролем «контрреволюционных» отрядов, быстро (практически все имели военный стаж) слившихся в армию, возглавленную опытнейшими командирами, оказалась большая часть республики, а утром 18 февраля повстанцы без боя вступили в Ереван. Торопливо сматывая удочки, Ревком успел только отдать приказ об уничтожении политических заключенных, однако в спешке палачи не слишком старались. В тот же день был сформирован временный Комитет Спасения Родины, состоящий, понятное дело, в основном из дашнаков, и контролировавший около 95 % бывшей Араратской Республики.
Об этой войне большевики, любившие вообще-то похвастать успехами непобедимой и легендарной, постарались забыть. И я их понимаю. Никогда не сталкивавшиеся с серьезным сопротивлением на национальных окраинах (Украина – играючи – за три недели, Грузия – за полторы, регулярная армия эмира бухарского – и вовсе за два дня), с Арменией они возились два с половиной месяца. Более того, по ходу дела практически перестали существовать войска Советского Азербайджана, так что Кавбюро пришлось оттягивать части 11-й Армии с грузинского фронта, тем самым подарив Грузии еще пару недель независимости. Самым же неприятным, хотя и вполне предсказуемым побочным эффектом стала новая вспышка партизанской войны за пределами АрмССР, на территориях, уже не считавшихся «спорными», куда после падения в начале апреля Еревана отошла и дашнакская армия. Уладить вопрос окончательно большевики не могли аж до июля. В конце концов, уладили, конечно, сила солому ломит, но лишь тогда, когда Кремль, убедившись, что кнут не помогает, извлек из заначки редко применяемый пряник и «попросил» Кавбюро пересмотреть решение о передаче Зангезура Азербайджану. А дальше все пошло по известным сценариям. Были расстрелы, и много, но в целом режим смягчился, по крайней мере, топорами уже не рубили, а вакансии старались заполнять местными кадрами. Дальнейшая же судьба границ Армении была определена в феврале-марте следующего года на Московской конференции, куда делегацию Армянской ССР по требованию турок даже не пустили. Республика осталась жить примерно в границах, очерченных на карте поныне, потеряв не девять десятых территории, как предполагалось по договору с Карабекиром, а вдвое меньше, всего 40 % в пользу Турции и еще от 5 % в пользу братского Азербайджана.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу