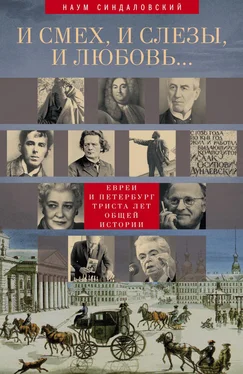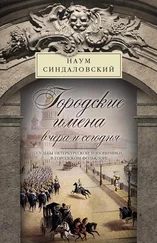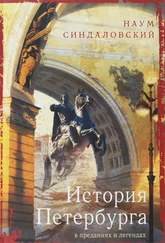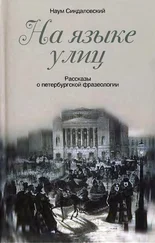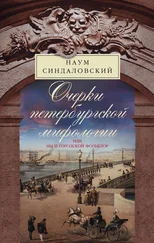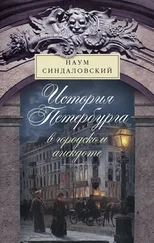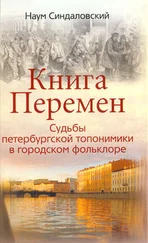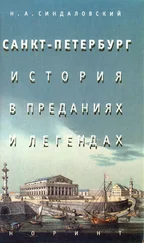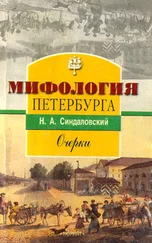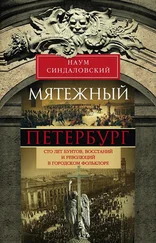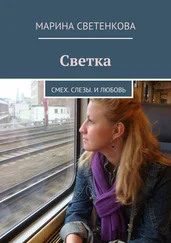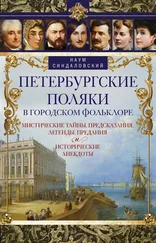Отметим одну особенность, замеченную проницательным фольклором. Из Ветхого Завета известно, что Самсон носил длинные волосы, служившие источником его необычайного могущества, и что с их утратой силы его иссякнут. Но однажды Самсон поддался страсти к коварной филистимлянке Далиле, обещавшей своим соотечественникам за вознаграждение выведать, в чем сила Самсона. После трех неудачных попыток ей удалось узнать секрет его жизненной силы. «И усыпила его на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его».
Так погиб библейский Самсон. Что не грозит, как уверяет городской фольклор, русскому Самсону, так как в петергофской скульптуре он изображен с короткими волосами.
Между тем в еврейской истории, особенно в эпоху рассеяния евреев по миру, архаичная этимология имен и названий мистическим образом сыграла с ними недобрую шутку. Уничижительное клеймо «пришельцев», а значит «чужаков», следовало за евреями повсюду, не давая забывать, кто есть кто в стране их пребывания, будь то в первом, втором, пятом или в более отдаленных от первого поколениях. Причем напоминания о том, что евреи чужаки, приобретали все более и более изощренные, уродливые формы, эволюционируя от первых итальянских еврейских гетто, русской черты оседлости и первых немецких концентрационных лагерей до последующих фашистских лагерей уничтожения. В этих сложнейших обстоятельствах рассеяния по миру История поставила перед евреями вопрос не только о собственном физическом выживании, но и о сохранения нации, народа, веры. Сегодня мы знаем, что даже в таких порой нечеловеческих условиях евреи выжили, сохранили и Народ, и Нацию, и Веру.
Но при этом имеем ли мы моральное право с высоты нашего современного знания и социального устройства судить тех, кто ради выживания был вынужден пойти на принудительную или даже добровольную духовную ассимиляцию? Тем более когда речь идет о культурной ассимиляции, позволяющей собственной производительной, общественной или творческой деятельностью обогатить культуру титульной нации, среди которой живешь, и при этом сохранить в себе этнические и духовные ценности родного еврейского народа, независимо от того, сменили ли твои предки или ты сам вероисповедание и какое количество еврейской крови течет в твоих жилах. Как утверждает доктор исторических наук Елена Носенко-Штейн в статье, опубликованной в книге «Евреи России. Неизвестное об известном», по «свидетельствам статистики», «доля людей, рожденных в смешанных браках, в которых только один из родителей еврей, – в полтора или даже в два раза превышает долю людей, у которых оба родителя евреи». Понятно, продолжает она, «называть таких „половинок“ евреями не всегда корректно, если не восклицать вслед за персонажем фильма Никиты Михалкова «12»: „Евреев наполовину не бывает!“» И это правда. Мы в своей книге следовали исключительно этому принципу.
И последнее. Петербургу всего чуть более трехсот лет. Столько же лет петербургскому городскому фольклору. Однако его систематизация и исследование как самостоятельного и самодостаточного жанра городской культуры начались поздно. Первая книга о петербургском городском фольклоре, отмеченном петербургской исторической, географической, топонимической, архитектурной или какой-либо иной специфической метой, появилась только в конце 1994 года. Это произошло по разным причинам. В XVIII веке региональной историей вообще не интересовались. В XIX – среди петербуржцев сложилось убеждение, что, поскольку их город непростительно молод, возник на пустом месте, не имеет ни корней, ни истории, то по определению не может иметь собственного фольклора. В XX столетии, особенно в советский период его истории, фольклор, по-своему комментирующий и объясняющий события, происходящие вокруг, считался чуть ли не диссидентством. Он противоречил официальной, канонизированной на всех этапах всеобуча коммунистической идеологии государственной истории и потому был опасен. Достаточно напомнить, что даже за рассказ анекдота с едва заметным политическим подтекстом можно было поплатиться карьерой, свободой, а то и жизнью.
Серьезное систематическое и свободное изучение городского фольклора стало возможным только с падением советской власти. И тогда, к немалому удивлению самих исследователей и их читателей, выяснилось, что его много. Только в нашем собрании насчитывается около двенадцати тысяч единиц петербургского городского фольклора. Это легенды и предания, пословицы и поговорки, стихи и песни, анекдоты и частушки, аббревиатуры, неофициальные названия, прозвища и многое другое, имеющее отношение к устному народному творчеству.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу