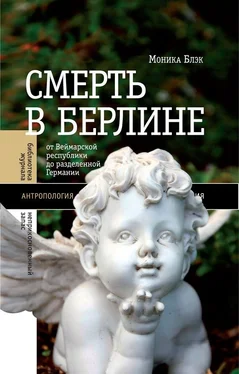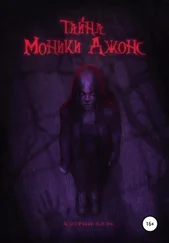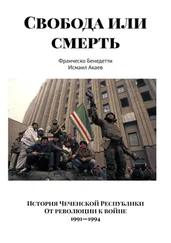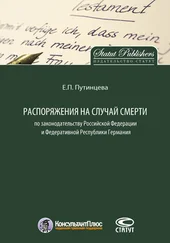В основе этого исследования лежит стремление преодолеть дистанцию, которую ученые вроде Арьеса и Горера при обсуждении взглядов на смерть сохраняли по отношению ко вполне реальному и разрушительному опыту смерти в Европе XX в. В век «страдания и процветания» смерть, несомненно, относилась к самому живому и живо запомненному опыту жителей Берлина в период между Первой мировой и 1950-ми гг. На протяжении тех десятилетий берлинцы проявляли по отношению к умершим глубокое чувство общественного и личного долга, переступающего пределы религии, класса и политики. Отнюдь не будучи отсоединены от смерти, жители Берлина, более того, демонстрировали порой одержимую связь с нею.
КАК ПОСТРОЕНА ЭТА КНИГА
Едва ли не центральное место в этом повествовании занимает смерть в годы Второй мировой войны. Вместе с тем одна из главных задач книги – выявить контрасты между восприятием и опытом смерти у жителей Берлина и тем, как их общественное существование было переоформлено связью с мертвыми в оба послевоенных периода: в расплывчатые с временно´й точки зрения периоды после Первой мировой и Второй мировой. Книга начинается с рассмотрения непрекращающихся, длящихся эффектов, которые произвела Первая мировая война на отношение к смерти и практики смерти в поздневеймарский и ранненацистский периоды. Здесь показано, что в 1939 г., когда война пришла вновь, воспоминания о смертях Первой мировой служили для жителей Берлина ближайшим ориентиром при осмыслении смертей Второй мировой – до того момента, как всеохватная реальность смерти Второй мировой проявилась в полную меру, поскольку этот опыт войны и смерти не был похож ни на что из того, что видел любой житель Берлина ранее. После 1945 г. берлинцы вновь столкнутся с последствиями массовой смерти, точно так же как после 1918 г., но совсем в других материальных, политических, идеологических и социальных условиях и – в контексте оккупации, а затем и разделения города.
Оглядываясь сегодня на беспрецедентное кровопролитие, происходившее повсюду на протяжении прошлого столетия, уже трудно вообразить, какая брешь была пробита в мире бесчеловечной, механизированной, массовой бойней Первой мировой войны. Воздействие привнесенных ею многообразных изломов в человеческую жизнь и мысль; мир, разрушенный ею, и мир, ею созданный, – все это остается предметом внимания историков, и многие из них усматривают в Первой мировой определяющий момент «рождения модерна». В Германии, которая оказалась одной из главных проигравших в Великой войне, миллионы смертей отбросили очень длинную и очень мрачную тень едва ли не на все сферы жизни: от политики до языка, от гендерных и иных социальных отношений до морали, эстетики и искусства. В Главе 1 показано, как спустя более чем десятилетие после Первой мировой войны мертвые в Берлине все еще преследовали живых, словно обвиняя в пренебрежении их памятью и их священной жертвой ради величия Германии 16. Это обстоятельство имело разнообразное влияние на городскую похоронную культуру. Оно напрочь дискредитировало Германскую империю и ее замысловатые и разукрашенные похороны и кладбища. Некоторые реформаторы спрашивали: как сказалось на нации то, что столько молодых людей окончили жизнь ничком брошенные в окопе, в то время как оставшиеся дома богачи продолжали устраивать пышные похороны? Эта мысль, а также желание дистанцировать Германию от того, что многие берлинцы в веймарский период считали бездушным самовозвеличением и индивидуализмом периода имперского, привели к требованиям реформы со стороны как левых, так и правых.
Пожалуй, не было другой политической организации в Германии 1920 – 1930-х гг., которая столь же серьезно отнеслась бы к «священной жертве» павших в Первой мировой войне или предприняла столь же радикальные меры по искуплению их смерти, как нацисты. Как будут неизменно заявлять сторонники нацистского движения, сам Третий рейх был рожден в траншеях Первой мировой, из смертей миллионов молодых мужчин-немцев. Нацисты настаивали на возрождающей и творческой силе сугубо мужской и строго героической смерти. Это лишь один пример космологического порыва – желания пересоздать мир на абсолютно новых началах, – который они проявляли в своих идеях о смерти. Этот порыв, как я описываю в Главе 2, принимал разные формы. После того как в 1933 г. Гитлер пришел к власти, сторонники нацистского нового порядка начали обновлять ритуалы, практики и пространства смерти в Берлине способами, которые были связаны с целью создания не просто расового государства, но расовой цивилизации. Формы почитания мертвых должны были быть очищены от «чуждых» элементов – столь же уверенно, как расовые «чужаки» были вычищены с «немецких» кладбищ. В нацистском Берлине и за его пределами практики смерти стали способом фундаментального отделения немцев от тех, кого нацисты обозначали как смертельного врага, само существование которого воспринималось враждебным немецкой жизни, – от евреев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу