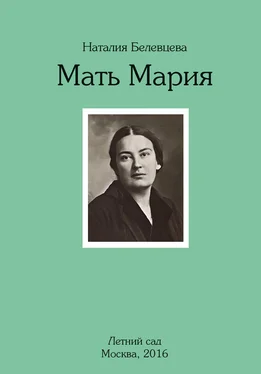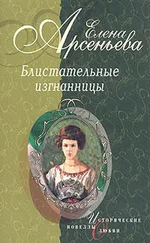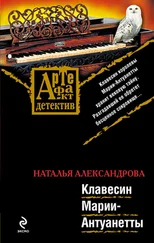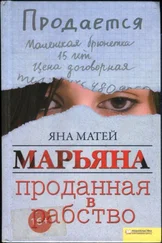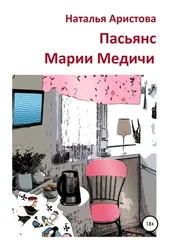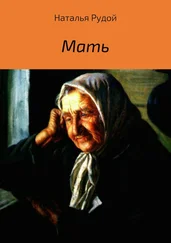Вот показалось, что земля – выращивание ее плодов, срастание с циклом ее жизни – даст это направление-смысл.
Зима – подспудное, подснежное томление жизни;
весна – посев саженцев, семян – прорастание зародышей жизни;
лето – рост, вызревание плодов, ох, как много работы в том, чтобы направить этот рост на плодоношение;
и, наконец, осень – собирание плодов.
И еще раз, и еще раз. Круги, круги. Нет здесь воли. А нужен путь.
Родила дочь. Что может еще больше сделать человек, женщина? Выносить и родить живую жизнь! Вот и дело в жизни, вот и путь: кормить, одевать, заботиться. А как ответить на ее будущий вопрос: «Зачем все?»
Опять нет воли, гриб на чужой жизни.
Все было испробовано, ко всему пригляделась: и к теософии, и к простоте труда, и к новоязычеству символизма. Ничто не подошло само по себе.
Вот я просил Бога:
– Что ты хочешь знать?
– То самое, о чем просил.
– Выскажи это кратко.
– Бога и душу.
(Бл. Августин, «Исповедь».)
В страшные годы Мировой войны Елизавета Кузьмина-Караваева пишет стихи-исповедь, которые складываются в книгу. Называет она ее «Руфь». Книга о выборе пути, даже не о выборе, а потом и кровью его добывании…
Но обратимся сначала к библейской «Руфи».
Моавитянка Руфь, вдова сына иудейки Ноэмии, следует за свекровью, возвращающейся на Родину. Идет в землю, бывшую чужой, но тайной брака ставшей ей Родиной.
И «пришли в Вифлеем в начале жатвы». А потом – послушание и труд на жатве. Завершением этого становится брак Руфи и Вооза, родственника Ноэмии, брак, который принесет иудеям отца царя Давида.
А теперь «Руфь» Е. Кузьминой-Караваевой [1].
Первое стихотворение – мучение от непривязанности к миру:
И этот мир еще ни разу
Мне Родиной второй не стал
(реминисценция ко второй Родине Руфи – Израилю); ужас перед личной и мировой греховностью:
И дух лишь тления заразу
С горячим воздухом вдыхал.
Но необходимо найти образ своего проживания времени этой жизни.
Как? Принять или отвергнуть этот смрадный мир? А может быть, и не принять, и не отвергнуть, но преобразить? По слову Божьему. Тогда видимой станет и дорога:
Но память сберегла обеты
И слово тихое: «Смирись».
И на пути земном приметы
Дороги, что уводит ввысь.
Только на пути к Богу (народу Божьему у Руфи) становится осмысленно-ответственной жизнь здесь. Тема пути и зрелости его избирания продолжается в следующем стихотворении.
Ощупью, сбивая в кровь руки и ноги, царапая тело, человек «звериной тропой» пробивается к «седой воде залива» полноты соединения с Богом. Позади – нива пережитого, на которой созрели колосья жатвы – жатвы духа.
(Моавитянка Руфь также соединяется с народом иудейским после жатвы.)
Полнота соединения дается через принятие креста. Путь Руфи– путь перекрещение ее воли и воли Господа: упорство в следовании за свекровью, а потом, в земле обетованной смиренное следование советам старшей. Принятие креста разрешает и роковой вопрос о сочетании небесного и земного времен. Крест приносит полноту времени – каждый миг сей жизни включая в безвременное:
Тружусь, как велено, как надо.
Рощу зерно, сбираю плод.
Не средь равнин земного сада
Мне обетованный оплот.
И в час, когда темнеют зори,
Окончен путь мой трудовой.
Земной покой, земное горе
Не властны больше надо мной.
Я вспоминаю час закатный,
Когда мой дух был наг и сир,
И нить дороги безвозвратной,
Которой я вступила в мир.
Теперь свершилось: сочетаю
В один и тот же Божий час
Дорогу, что приводит к раю,
И жизнь, что длится только раз.
Вот так пережила религиозный кризис будущая мать Мария. Труд ради Бога. Единому на потребу ращение зерна и сбирание плодов. Тогда все обретает смысл и жизнь осознается как крестоношение:
Мечтать не мне о мудром муже
И о пути земных невест:
Вот с каждым шагом путь мой уже.
И давит плечи черный крест…
…
Час настал; дороги завершились
И с душой моею только Бог.
«Нежданно осветил слепящий яркий свет
Мой путь земной и одинокий:
Я так ждала, что прозвучит ответ,
Теперь же ясно мне – ответа нет.
Но близятся и пламенеют сроки»
«Руфь»
Шла война. На заседаниях религиозно-философского общества самым острым из обсуждаемых вопросов стал вопрос об отношении интеллигенции к войне и национализму.
Давняя традиция русской интеллигенции состояла в защите – защите угнетаемого народа от абсолютизма монархии, от безбожности западной культуры, от узости духовенства и т. д. Она считала себя нравственно ответственной за духовное развитие своего народа. Считала себя его воспитателем. Ей хотелось вести народ к Правде и Истине.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу