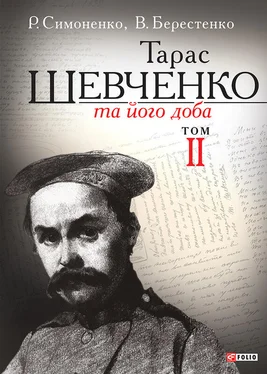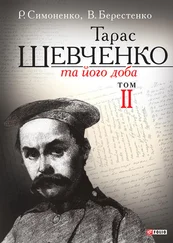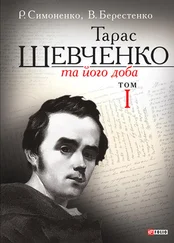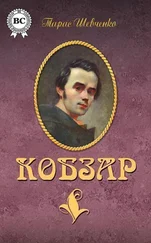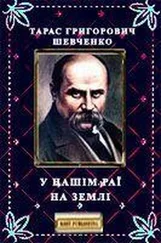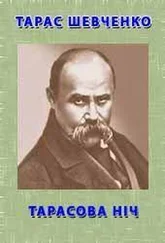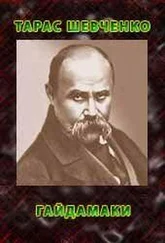Характеристическая черта гения Пушкина – разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной общественной жизни, которые бы прошли мимо него, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железные решётки, а о жизни людей разве только слышать.
Пушкин, при всей своей восприимчивости, никак не нашёл бы там материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни. Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать – капризном, существе.
Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает, и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех, умеющих отыскивать его живого, в бессмертных его творениях…
Ещё пара слов:
Манифестом 26 августа 1856 года я возвращён из Сибири. В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провёл с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке. В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин поблагодарил её за участие, извинялся, что не может её принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского! 53
Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошёл до меня с лишком через 20 лет!..
Им кончаю и рассказ мой 54».
НАЙВАГОМІШИЙ ІСТОРИЧНИЙ ТВІР О. С. ПУШКІНА
Йдеться про прозовий твір поета про минуле – «История Пугачёва» 55, присвячений одній з найбільших постатей визвольного народного руху проти російського самодержавства. У «Передмові» до нього поет розповів про копітку працю над ним та вимоги, які він ставив перед собою, джерела, котрими він користувався як професійний дослідник минулого.
Зрозуміло, що не можна навести всієї скрупульозної та об’ємної історичної праці Пушкіна. Зупинимось лише на декотрих завданнях, які ставив перед собою її автор, сповістимо про ретельні пошуки у безпосередніх місцях повстання, де збереглися спогади й легенди про селянський рух та діяльність самого Омеляна Івановича Пугачова, а також наведемо загальні висновки, до яких прийшов сам автор дослідження.
Предисловие
«Сей исторический отрывок, – писав О. С. Пушкін, – составлял часть труда, мною составленного. В нём собрано всё, что было обнародовано правительством касательно Пугачёва, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нём. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельствами живых.
Дело о Пугачёве, доныне нераспечатанное, находилось в государственном санктпетербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайными государственными, ныне превращёнными в исторические материалы. Государь император по своём восшествии на престол приказал привести их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило.
Будущий историк, которому позволено будет распечатать дело о Пугачёве, легко исправит и дополнит мой труд – конечно, несовершенный, но добросовестный. Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства».
Який шлях і яку методу обрав О. С. Пушкін для донесення історичної правди
Самий намір звернутись до історії народної боротьби за волю зустрічав незадоволення й осуд не лише офіційних урядових, але й незмінної їх опори – клерикальних кіл.
Полемізуючи з ними, О. С. Пушкін вдався до єдино можливого в умовах царювання Миколи І розкриття позиції урядовців і клерикалів – свідчення їх неспроможності. Своєрідним знаряддям цього став епіграф до праці, що містив звернення до її змісту:
«Мне кажется, сего вора всех замыслов и похождений не только самому посредственнейшему, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли было бы удалось; коего все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачёв (думаю) подробностей оных не только рассказать, но нарочитой части припомнить не в состоянии, поелику не от его одного непосредственно, но от многих его сообщников полной воли и удальства в разных вдруг местах происходили».
Читать дальше