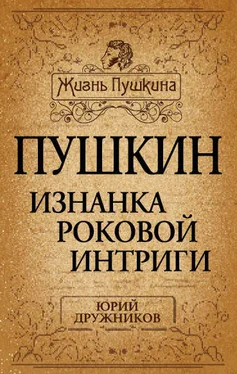…вздыхала о другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.
И мать, выйдя замуж помимо своей воли,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.
Последняя мысль в главе второй «Онегина» заимствована Пушкиным из романа Шатобриана «Рене» и будет – вторично, как бы замыкая круг в главе восьмой – завершением жизни Татьяны Лариной. Однако Онегин – не ленивый домосед типа Дмитрия Ларина. Пушкин неоднократно подчеркивал «антисемейность» Онегина [200]. Молодой холостяк не дождется смерти дяди, чтобы получить наследство и начать его проматывать. Он спервоначалу весьма циничен по части супружества, которое «было б мукой». Серьезность любви другого человека вообще мало заботит сего эгоцентрика. Если бы не лень, он не остановился бы перед тем, чтобы скуки ради отбить Ольгу у Ленского, а впрочем, мимоходом начал это делать. Его альтернатива браку – стереотипный круг: влюбленность – достижение цели – охлаждение – смена объекта, и все – «без цели, без трудов».
Онегин, по выражению Достоевского, являет собой тип «несчастного скитальца в родной земле». Достоевскому возражали, что он, призывая к нравственному усовершенствованию, избежал политических причин существования подобного типажа на Руси. Споря с Достоевским, Глеб Успенский оценивал Алеко и Онегина как скитальцев, оторванных от народа, беспочвенных, чуждых своей стране [201].
Достойна уважения энергия пушкинистов, доказывавших, что Онегин формировал светлые идеалы борцов за правое дело: «Формула деревенской жизни Онегина – «вольность и покой замена счастью». Содержание этой формулы (в высшем, духовном ее проявлении) – выработка, уточнение передового общественного мировоззрения…» [202]. Но ведь следом Онегин называет свободу «постылой» и говорит: «Я так ошибся». Ошибся в чем, съязвим мы: в том, что не женился на Татьяне или… что не вырабатывал передового мировоззрения?
Набоков отмечает двойственность характера Пушкина, отраженную в двух персонажах: Онегине и Ленском. Но и объединяют Пушкина оба они, раздвоение сливается, как лед и пламень [203]. Добролюбов в известной статье «Что такое обломовщина» обратил внимание на перемену в Онегине. Убив Ленского, он убил в себе романтика, близкого Ленскому, то есть расстался с остатками романтизма, энтузиазмом, собственной юностью. Когда в конце Онегин снова встречает Татьяну, дело не только в том, что она в другом статусе и недостижима, дело еще и в том, что сам он другой. Того Онегина, которого она любила в юности, больше нет.
Сделаем еще шаг: молодой Пушкин также недостижим в конце романа: и он в другом статусе. Достоевский относит Алеко к первому периоду, а Онегина – начало к первому, а конец ко второму периоду Пушкина. Отсюда восьмую главу «Онегина» можно считать написанной другим или, точнее, изменившимся Пушкиным. Теперь брак для обоих – героя и его создателя – есть способ перейти в другой жизненный круг.
Не раз отмечалось, что перемещение Татьяны от неудачной любви к браку по расчету может рассматриваться как центральная линия романа. При дефиците женихов в деревне по сути подходящий ей Ленский выбирает (в нарушение традиционного старшинства) ее более жизнерадостную младшую сестру. Онегин тоже флиртует с Ольгой. Тот, кого Татьяна полюбила, становится убийцей сестриного жениха. Во сне медведь помогает Татьяне перебраться через ручей, чтобы соединиться с Онегиным. Онегин провозглашает монстрам: «Мое!» В психоанализе сна Татьяны средний род, употребленный Пушкиным вместо логического «моя», объясняется просто как «тело» [204]. Во сне Татьяны Евгений кладет ее на скамью, сейчас свершится это , но в неподходящий момент являются незваные Ленский и Ольга.
Потебня рассматривает роковую линию Татьяны с точки зрения традиционной свадебной символики. Татьяна бесспорно ищет возможности соединиться с Онегиным. Незамерзающий ручей есть комплекс препятствующих обстоятельств. И, согласно русской обрядной традиции, еще до сочиненного Пушкиным окончания можно было предсказать нелюбимого суженого, уготованного Татьяне, то есть генерала [205]. Турбин замечает, что выход замуж обеих сестер именно за военных тоже предсказан в романе:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу