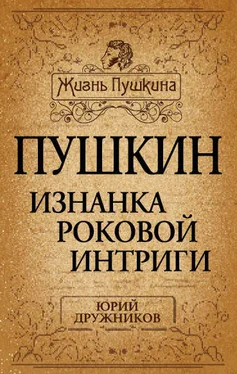Побег из России на Запад автоматически отрезал любому перебежчику путь назад. Стало быть, нам придется признать, что, задумывая бегство, первый поэт России примеривался к статусу политического эмигранта: «…Верно нога моя дома уж не будет». Любил ли Пушкин свою страну? Любил. И хотел умереть на родине. Но еще никто не доказал, что эмигранты любят родину меньше, чем те, кто живет внутри.
Такова закулисная сторона биографии поэта, которая по понятным причинам всегда ретушировалась, ибо с ней трудно увязать официальный образ государственного поэта – патриота. В этом смысле, вообще говоря, советское литературоведение могло найти в истории литературы истинных официальных патриотов отечества вроде Булгарина, Греча, Лобанова, с которыми, между прочим, у литературных бонз, связанных с тайными органами, было большее родство душ.
Стало ли мифотворчество историей сегодня?
Происходит нечто любопытное. В 1999 году исполняется двести лет со дня рождения Пушкина, и к юбилею уже идет вполне традиционная подготовка. В государстве, потерявшем ориентацию в пространстве и плывущем неизвестно куда без руля и без ветрил, кажется, только он, Пушкин, и остается прочным корнем культуры, на который можно опереться.
Значение Пушкина для России бесспорно, но ситуация, похоже, все еще двусмысленная. История, литература, искусство продолжают оставаться вовлеченными в политику, и очень трудно войти в берега. Мы живем в век изживания иллюзий, а Пушкина все еще укрывают от истины. Преувеличивая интернациональное значение Пушкина, должностные пушкинисты состояли при этой государственной религии, становились монопольными толкователями мыслей святого поэта, жрецами, ведающими Пушкиным, его рукописями и даже его родственниками.
В демократическом обществе делать это труднее, но пока любое нетрадиционное слово касательно святости Пушкина все еще встречается с неприязнью. Даже читатели, приученные к отфильтрованным сведениям о поэте, подчас нетерпимы. Вместо него, живого и бездонного в своих противоречиях, нам все еще предлагают некий плакат, иллюстрирующий указания начальства, или Пушкина – истинного христианина взамен старого образа Пушкина-атеиста. Видимо, до реального Пушкина мы еще не доросли.
1992
Тотальный экстаз, или С кого начинать летосчисление
Русская история до Петра Великого – сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело.
Федор Тютчев
Переименуем «русских» в «петровцев»?
Приближение к рулю очередного вождя гипнотически окрыляет передовую российскую общественность. Обещания улетучиваются, как утренний туман, будто и не витали в воздухе, контроль над умами крепнет. Вот-вот свежеиспеченный лидер широким жестом дозволит пишущей братии сравнивать себя с великими реформаторами прошлого и прежде всего с Петром Алексеевичем. Нам только дай: разукрасим так, что и родная мать не узнает. Все видят, как единодушная пресса быстренько склеивает имидж спасителя нации, за сим следуют тотальные выборы, и… тут у нас неизбежно возникают исторические ассоциации.
Описания русских царей, когда их много читаешь, действуют как промывка мозгов.
Какая таинственная сила побуждает верить, что новичок поможет не только бизнесу и пенсионерам, но и балеринам, и киношникам? Не охвачены упоением пока только последователи альтернативной любви.
Писатели, конечно, впереди. Стремление к истине мирно уживается с идолопоклонством, и это важная черта российского менталитета.
Будто в прошлом не выливали ушаты лести, а воз и ныне там. «История не роман, – писал Николай Карамзин, – и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир» [436]. Добавлю: до тех пор, пока перо не коснулось главы государства. Тут сразу начинают течь слезы умиления. Молодой Пушкин, ухаживавший за женой Карамзина, по этому поводу иронизировал: воспевают-де «необходимость самовластья и прелести кнута». А сам?
С горечью приходится взглянуть на аллилуйную сторону сочинений гения, ибо именно он у нас все. «В Пушкине, – вспоминал Вяземский, – было верное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость… Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных… для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению…» [437]. Возникает, однако, вопрос: какое это – верное понимание? Верное с чьей точки зрения? И если под меркой и рамой Вяземский понимает установки сверху, как надо изображать исторические фигуры, то в свете этого интересно посмотреть, как независимый автор рисовал вождей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу