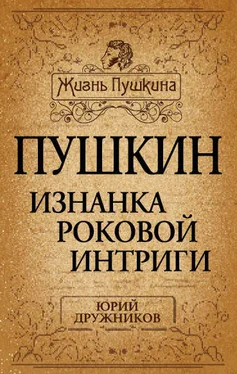Поэт и переводчик Александр Ойслендер рассказывал мне, как однажды его вызвали к секретарю ЦК партии по пропаганде и дали переводить стихи с грузинского на русский. Ойслендер видел эти стихи в старом учебнике «Родное слово» для начальной грузинской школы и сразу сообразил, что они принадлежат Сталину. На грузинском языке эти стихи выставлены в музее в Гори.
Когда Ойслендер принес, вялый от страха, переводы, ему дали портфель. Дома он открыл его – портфель был полон денег. Стихи так и не были напечатаны по-русски. О причине мы можем только гадать.
Но в анекдотном ручейке тех лет любовь Сталина к поэзии освещалась несколько иначе. Пушкин пришел к вождю пожаловаться:
– Товарищ Сталин, меня не печатают.
Сталин снимает трубку:
– Товарищ Фадеев, издайте сочинения товарища Пушкина.
Пушкин продолжает:
– У меня квартиры нет.
Сталин звонит в Моссовет:
– Дайте квартиру товарищу Пушкину.
– Спасибо, товарищ Сталин, – говорит счастливый Пушкин и уходит.
Сталин снимает трубку:
– Товарищ Дантес, распорядитесь насчет товарища Пушкина.
Я встретил математика, который, сидя в лагере, рассказал этот анекдот, за что ему удвоили срок.
Советский патриотизм означал, что Сталин и родина слиты. Индивиду следовало зарубить себе на носу: жизнь в Советском Союзе лучше, чем в любой другой стране мира, а счастье дал нам Сталин. Необходимо на каждом шагу подтверждать свою любовь к нему. И, конечно, к родине – самому лучшему и самому передовому в мире социалистическому отечеству.
Пушкин работал, как сформулировали пушкинисты, в качестве «учителя беззаветной преданности Родине». Цензура аккуратно выполняла требования этого тотального патриотизма. Владимир Тендряков записал в мемуарах, много лет спустя опубликованных, что после войны он читал издание детской сказки Пушкина «О царе Салтане». В тексте вместо изъятой у Пушкина строки стояли точки. Строка гласит:
За морем житье не худо [435].
И вот тут мы подобрались вплотную к одной из наиболее любопытных прорех в агитпроповском мифе о Пушкине как государственном поэте и ортодоксальном патриоте. Впрочем, темы этой, как ни странно, за ничтожным исключением, вообще избегала пушкинистика на протяжении всей своей истории.
Живой Пушкин никогда не видел заграницы, куда собирался отправиться в 1817 году сразу после окончания лицея. Павлу Катенину, встретившемуся с молодым поэтом в театре, Пушкин сказал, что «он вскоре отъезжает в чужие краи», из кишиневской ссылки он хотел удрать в Грецию, в Одессе получил два отказа на официальные прошения царю и договаривался с контрабандистами, чтобы его спрятали в трюме корабля. «…Не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь, – писал поэт брату. – Святая Русь мне становится невтерпеж. Ubi bene ibi patria («Где хорошо, там родина». – Ю.Д.). А мне bene там, где растет трын-трава, братцы».
Он мечтает попасть в Италию, видит во сне Францию, собирается в Африку, думает об Америке. Из Михайловского, заказав парик, Пушкин планирует побег через Польшу в Германию в качестве слуги своего выездного приятеля. Он придумывает липовую болезнь, подтвердив ее справкой от ветеринара, чтобы его пустили к врачу в Ригу, так как оттуда на корабле до Европы недалеко. «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство, – пишет он Вяземскому. – Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь».
Он бежит на Кавказ, чтобы посмотреть, мыслимо ли перебраться в Турцию, готов отправиться в Китай. Он безуспешно просится у начальника Третьего отделения Бенкендорфа в Париж. Больше того, он пишет гимны царю и патриотические вирши (в том числе военные) в надежде на благосклонность и, возможно, на получение в качестве награды поездки за границу. «Куда б ни вздумали, – обращается он к друзьям, собирающимся за рубеж, – готов за вами я…».
Россия превратила его в невыездного, в отказника, и поэт умер на цепи. За год до смерти великий патриот Пушкин жаловался в письме к жене: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!» И поставил восклицательный знак, который, вообще говоря, в его письмах встречается нечасто.
Зададим простой вопрос, который еще никогда не ставило пушкиноведение: поэт хотел поехать и вернуться или – эмигрировать?
Сперва Пушкин намеревался служить за границей по дипломатической части – таково было его образование и юношеские планы. Потом он пытался просто поехать с целью путешествовать и набираться впечатлений. Ему не дали этого сделать, и тогда он стал искать пути выбраться за границу тайно. Для каждого, кто понимает традиционную русскую ситуацию, ясно, что вернуться беглецу или самовольному изгнаннику (он называл себя сам и так, и так), – значило закончить свои дни на каторге. Такую судьбу Пушкин без всякого энтузиазма примерял к себе не раз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу