Здесь не одно чувство, не чувство стремления к любимой «в общем и целом», не одна нота. Здесь целый квартет чувств, неожиданных, противоречивых и парадоксальных. Нетерпение, достигнув предела, обернулось вдруг изнеможением, тупой неподвижностью, грустью, и вся эта многоголосица сливается в согласную мелодию.
Еще больших высот достигает Бунин, изображая сложности и разновидности чувства. Он смело вступил в области, до него неведомые, описал подробности, «составные части» душевных движений, до него скрытые, и выявил бесконечное разнообразие, казалось бы, всем известых чувствований.
До чего, оказывается, многогранным может быть несложное, в общем-то, ощущение одиночества. Вот как передает Бунин (опять-таки средствами предметности материального мира) особый оттенок «гостиничного» одиночества: «...в тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее — как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорный, стукает по пуговицам».
Правда, и Бунин не всесилен. Иногда многослойность и глубина впечатлений становилась невыразимой, и он писал:
«...как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб?»
«Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу...»
«Как выразить чувства, с которыми вышли утором из вагона...»
Иногда такие фразы пишутся для усиления впечатления. Но вероятно и то, что в некоторых случаях даже Бунину не хватало мастерства, чтобы безошибочно выразить тончайшую механику духовного движения.
Еще более неблагодарны для пересказа неутешное горе, отчаяние, слепой гнев. Эта грубые, универсальные моночувства описаны тысячи раз и романтиками и реалистами, в таких случаях Бунин иногда действует очень просто: общеизвестные чувства он просто не упоминает.
Рассмотрим, как передан «душевный недуг», постигший тринадцатилетнего Алешу после ареста брата.
Родители возвращались в Каменку. Алеша проводил их немного (он учился в ту пору в гимназии и жил в городе «на хлебах»), слез с тарантаса. От горя они не смогли и проститься как следует.
«Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел, могучий бурый коренник задрал голову и затряс залившийся под дугой колокольчик, гнедые пристяжные дружно и вольно взяли вскачь, подкидывая крупы, а я еще долго стоял на шоссе, провожая глазами этот верх, глядя на убегающие задние колеса, на косматые бабки коренника, быстро пляшущие между ними под кузовом тарантаса, и на высоко и легко взвивающиеся по его бокам подковы пристяжных,— долго с мукой слушал удаляющийся поддужный плач».
Здесь та же перечислительность, что и в примере из «Детства Никиты». «Поддужный плач» подсказывает, какое неизбывное горе затопило все существо Алеши, но и без этой подсказки все ясно. Глаза его видят, слышат, но смысл и связь происходящего исчезли. Он превратился на время в бесчувственное отражающее зеркало. Подчеркнутые, до болезненной остроты четкие, взятые крупным планом детали: задние колеса, косматые бабки, подковы — все это постепенно стягивается в картину, насквозь пропитанную горем, сиротливостью, одиночеством...
Впрочем, «бесчувственых» пассажей, как бы прикрывающих сильные переживания героя, уводящих эти переживания «в подтекст», в «Жизни Арсеньева» не так много. Да и применялся этот прием не одним Буниным.
А Бунина понять что-либо означало — почувствовать:
«Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого..», «...я вдруг почувствовал зту Россию...» Такие фразы означали окончательное постижение предмета, утверждение того, что «вещь в себе» стала «вещью для Алеши».
Свойства и качества вещей, обстановки, человека пропущены сквозь двойную линзу — зрелого и молодого Бунина — и выдаются читателю в виде субъективной переработки этих свойств и качеств. Удивительно, что при такой трансформации и неизбежном в связи с ней искажении окутанный маревом чувства предмет предстает перед читателем более ярко, живо и истинно, чем бы он был выписан с флоберовским беспристрастием.
«Дама эта имела крупного, широкоспинного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вылупленными стеклянно-крыжовенными глазами, с развратно переломленным носом, с чванной, презрительно выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком. У него обычно было одно и то же выражение морды — ничего не выражающее, кроме внимательной наглости,— однако он был до крайности нервен».
Читать дальше
![Сергей Антонов От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] обложка книги](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-cover.webp)

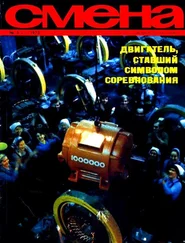
![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)
![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)





![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)
