И словечко «особа» и весь иронически-лакейский оттенок фразы «покушалась обеспокоить» отлично передает меру отвращения, испытываемую Марком к существу, в которое он вынужден был на время превратиться. Не менее характерно и сказанное дальше: «Я лежал важно, настроенный снисходительно к опеке».
Больному Марку принадлежит самообличающая апология мещанского самодовольства:
«Великолепное, ни с чем не сравнимое общение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня.
«Муж зарабатывает деньги, кормит жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни, а так как мужчина значительнее вообще женщины, то все обстоит благополучно и правильно». Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе: «Я — снисходительно-справедливый мужчина».
Александр Степанович Грин (Гриневский) начал писать во времена, к писательству не располагающее,— после поражения революции девятьсот пятого года.
Короткий по историческим меркам период 1907—1912 годов имел такое значение для нашей родины, что его иногда называют эпохой — эпохой реакции. Огромная империя оцепенела. Гробовая тишина ночных улиц нарушалась лишь выстрелами самоубийц и бомбами анархистов. Появились черносотенные журналы со зловещиими названиями «Жгут», «Кнут». Контрреволюция праздновала победу.
Под давлением полицейского террора усилилось размежевание политических сил на два лагеря. Опорой ленинской партии был рабочий класс. Реакционеры искали поддержки в среде обывателя-мещанина.
Обывателем номер один был император Николай II. Председателя Совета министров Столыпина называли образцом политического разврата. Занявшему вскоре этот пост Горемыкину вообще все было, как у нас говорят, «до лампочки», и его дразнили «манфишистом» (от французского je m'en fiche, что по-русски можно перевести малоупотребительным теперь словом «наплевизм»).
Официальная пропаганда поднимала мещанина на щит, прославляла мещанские добродетели. Любое свежее слово пресекалось. Юмористический журнал «Сатирикон» в 1910 году сетовал: «Дело в том, что мы можем писать обо всем, но — понемногу. Из духовенства мы можем касаться только интендантов, из военных — вагоновожатых трамвая, а министров можем колоть и язвить только в том случае, когда они французы... »
При жизни Льва Толстого и Максима Горького самыми популярными писателями стали Пшибышевский, Сологуб, Мережковский, а книжный рынок наводнялся бульварщиной.
Издатели наживались на грошовых гадательных книгах, оракулах, сонниках, столяры сколачивали круглые спиритические столы без гвоздей. В салоне графини Игнатьевой крестообразно лопнула картина, после того как Распутин перекрестил изображенную на ней нагую куртизанку. С этого чуда, вспоминают мемуаристы, и началась головокружительная карьера святого старца. Вообще, фигура Распутина как в зеркале отражает две ведущих черты тогдашней обывательской идеологии: мистическое мракобесие и крайний аморализм.
Разночинная интеллигенция в массе своей боялась пролетариата. «Эксцессы» революции ужаснули ее. Бывшие «борцы с деспотизмом» со сказочной быстротой превращались в крайних индивидуалистов. Какая может быть мораль в хаотическом мире? Что могут значить добро и зло, если людьми играют таинственные, недоступные разуму силы?
Власти благоволили такому направлению дел. В рассуждениях по поводу «проблемы пола» разрешено было как угодно проявлять оригинальность. Герой романа Арцыбашева «Санин» «любил пить и много знал женщин».
«В этой книге яркий протест против закаменевших моральных ценностей! И как таковой этот роман имеет общественное значение. Санин уважал женщин. Здесь больше сказано в защиту личности, чем во всей западноевропейской литературе». Так восхваляет «Санина» некий анархист Ян, персонаж другого сочинения, вышедшего в те годы,— романа «Ключи счастья» А. Вербицкой.
Этот защитник личности вразумляет свою наперсницу Маню: «Мы переживаем эпоху освобождения плоти». Только «инстинкты не лгут», «наши желания священны», «можно любить одну, а желать другую. В этом нет ни пошлости, ни грязи».
Семнадцатилетняя Маня усваивает постулаты анархиста и влюбляется в миллионера. Воззрения миллионера на любовь мало отличаются от воззрений анархиста. «Я люблю тело женщины. И ощущения, которые оно мне дает. Здесь масса оттенков»,— объясняет он Мане. Через некоторое время Маня пишет ему записку: «Если ваша любовь — гибель, то пусть я погибну. Приезжайте в беседку. Приезжайте! Если вы меня разлюбите — я пойду на баррикады. Цветы моей души — они ваши, Марк. Сорвите их. Упейтесь их ароматом».
Читать дальше
![Сергей Антонов От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] обложка книги](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-cover.webp)

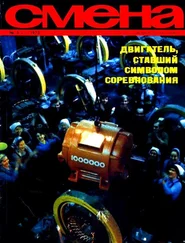
![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)
![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)





![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)
