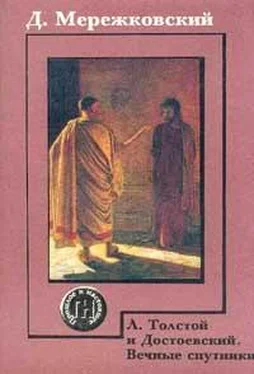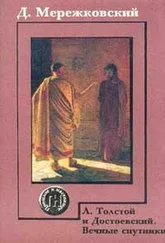Как будто на совершенное соединение с природою он уже не надеется, не говорит: «будь ими», а только «будь, как они».
У Тютчева противоречие это обостряется еще более, до невыносимого «разлада».
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
Наконец самую сущность отношений Тургенева к природе составляет этот разлад между ропотом «мыслящего тростника» и бессмысленною ясностью природы, доведенный уже до последней крайности.
У Л. Толстого отношение к природе – двойственное: для его сознания, желающего быть христианским, природа есть нечто темное, злое, звериное, или даже бесовское, «то, что христианин должен в себе побеждать и преображать в царствие Божие». Для его бессознательной языческой стихии человек сливается с природою, исчезает в ней, как капля в море. Оленин, проникшись мудростью дяди Ерошки, чувствует себя в лесу насекомым среди насекомых, листом среди листьев, зверем среди зверей. Он не сказал бы, подобно Лермонтову: «будь, как они», потому что он – уже «они». В «Трех смертях» умирающая барыня, несмотря на внешнюю сословную оболочку культурности, так мало мыслит, что здесь в голову не приходит сопоставлять ропот «мыслящего тростника» с безропотностью умирающего дерева. И в том и в другом случае, и в христианском сознании и в языческой стихии, у Л. Толстого отсутствует противоположение человека природе: в первом случае природа поглощается человеком, во втором – человек природою.
Пушкин слышит в тишине ночной:
Парки бабье лепетанье.
Для Тютчева есть «некий час всемирного молчанья», когда сумрак сгущается.
… как хаос, на водах.
Беспамятство, как Атлас, давит сушу.
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах.
И в бездыханных июльских ночах у него
Одни зарницы огневые,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.
У Тургенева тоже, как демоны, ведут беседу о человечестве, об этой жалкой плесени на поверхности земного шара, ледяные вершины Финстер-Ааргорна и Шрекгорна в пустынном бледно-зеленом небе.
Ни боги, ни демоны природы никогда не тревожили музы Л. Толстого в «пророческих снах»; никогда не слышалось ему в тиши ночной «Парки бабье лепетанье»; небесный свод не казался ему, как Лермонтову, таким прозрачно-глубоким,
Что даже ангела полет
Прилежный взор следить бы мог.
И ручей не шептал ему
… таинственные саги
Из чудных стран, откуда мчится он.
И ночной ветер не твердил ему, как Тютчеву, «о непонятной муке»
Понятным сердцу языком,
…………………………….
Про древний хаос, про родимый.
Любит ли он природу? Может быть, чувство его к ней сильнее, глубже того, что люди называют «любовью к природе». Если он и любит ее, то не как отдельное, чуждое человеку и все-таки человекоподобное, полное божескими и демоническими силами, вселенское существо, а как животно-стихийное продолжение своего собственного существа, «как душевного человека». Он любит себя в ней и ее в себе, без восторженного болезненного трепета, без опьянения, тою великою трезвою любовью, которою любили ее древние и которою уже не умеет любить ее никто из современных людей. Сила и слабость Л. Толстого заключается именно в том, что никогда не мог он до конца, до совершенной ясности отличить культурного от стихийного, выделить человека из природы.
Потусторонний мрак, потусторонняя тайна есть и для него в природе; но это – мрак и тайна, полные лишь отталкивающего ужаса. Иногда и для него внезапно приподымается покров явлений, тот «золотой ковер» дневного света, о котором говорит Тютчев:
Святая ночь на небосклон взошла
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер, она свила —
Ковер, накинутый над бездной.
Но за этим приподнятым покровом видит Л. Толстой не «живую колесницу мироздания, открыто катящуюся в святилище небес», не «ангелов полет», а лишь бездонно-черную, страшную дыру – «мешок», в который просовывается и все не может просунуться Иван Ильич со своим нечеловеческим криком: «Не хочу-у-у!». И в голосе «ночного ветра» слышится Л. Толстому лишь тот безнадежный шелест сухого чернобыльника в снежной пустыне под вьюгою, который так пугает замерзающего Брехунова в «Хозяине и работнике». А пока дневной покров опущен – все ясно, все явно: он видит природу так, как она есть, и никогда этот «золотой ковер» не становится для него прозрачным, сквозящим, просвечивающим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу