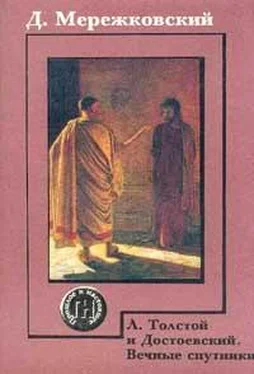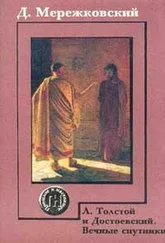– А до женского пола вы, князь, охотник большой? – в самом начале романа спрашивает Идиота Рогожин.
– Я? Н-н-нет! Я ведь… Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей совсем женщин не знаю.
Так ли это? Только ли по болезни? Алеша Карамазов, тоже «юродивый», во многом напоминающий князя Мышкина, отнюдь не болен: это – «статный, краснощекий, пышащий здоровьем девятнадцатилетний подросток». «Он очень красив собой» и очень «спокоен». Скажут: может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму, замечает Достоевский, – а мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом . Мы увидим, что и князь Мышкин «реалист», конечно, в особом, высшем смысле, у самого мистического и самого реального – гораздо больше точек соприкосновения, чем обыкновенно думают. И вот, однако, этот «краснощекий, пышащий здоровьем реалист» Алеша точно так же, как «больной» князь Мышкин, «совсем женщин не знает»: у Алеши – «дикая, исступленная стыдливость и целомудренность». Но это – целомудренность уже не от болезни, не от скудости, а, скорее, напротив, от какого-то особого, высшего здоровья, от полноты и гармонии плотской жизни; это не умерщвление, не заглушение, а только молчание, тишина пола, но, может быть, тишина перед бурею. Ведь и Алеша – Карамазов: «Мы все Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это буря, потому что сладострастие – буря, больше бури!» Именно эта чрезмерная тишина пола – «исступленная стыдливость» – предсказывает неизбежную бурю пола. В тишине сила копится; она когда-нибудь должна разразиться: недаром старец Зосима посылает Алешу в мир, предрекая, что он вступит в брак, «познает женщину».
Но ведь и болезнь Идиота, как мы видели, – не от скудости, а от какого-то оргийного избытка жизненной силы. Это – особая, «священная болезнь», источник не только «низшего», но и «высшего бытия»; это – узкая, опасная стезя над пропастью, переход от низшего, грубого, животного – к новому, высшему, может быть, «сверхчеловеческому» здоровью. У самого Идиота не хватит сил для перехода, он погибнет; но переход все-таки должен совершиться: «Человек должен перемениться физически», – как утверждает Кириллов. «В моментах высшей гармонии», которые испытывает князь Мышкин перед припадками падучей, в эти страшные «пять секунд» («более пяти душа не могла бы вынести»), «продолжающиеся как молния», за которые «стоит отдать всю жизнь», – в эти бесконечные мгновения, когда он вдруг понимает слово апокалипсического ангела о том, что «времени больше не будет», – и совершается, может быть, начало «физической перемены человека». В эти-то пять секунд и Бедный Рыцарь имел одно виденье,
Непостижное уму.
……………………
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.
(Тоже – «исступленная стыдливость».)
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. D. своею кровью
Начертал он на щите.
Бедный рыцарь так и не понял главного в любви своей: оттого-то «все безмолвный, все печальный, как безумец, умер он». Ему казалось, что он любит только духом, «чистым духом», отвлеченным созерцанием; но он любил и духом, и кровью – до крови: недаром же кровью своею начертал имя таинственной Возлюбленной; все-таки кровью хотел запечатлеть свой духовный союз с Нею.
Насекомым – сладострастье.
Ангел Богу предстоит.
Но ведь вот и в ангеле – насекомое; насекомое, преображенное в ангела; невинное, святое, вспыхнувшее небесным огнем сладострастие, но все еще сладострастие, может быть, даже теперь – более сладострастие, чем когда-либо; недосягаемый для только плотской похоти духовный предел сладострастия, как страшная молния той «бури», о которой говорит Дмитрий Карамазов, самое оргийное в аскетическом.
Это предчувствует и девственница Аглая, влюбленная в князя Мышкина. «Поэту, – говорит она по поводу пушкинского Бедного Рыцаря, – хотелось, кажется, совокупить в один чрезвычайный образ все огромное понятие средневековой рыцарской платонической любви какого-нибудь чистого и высокого рыцаря; разумеется, все это идеал. В „рыцаре же бедном“ это чувство дошло уже до последней степени, до аскетизма. – „Рыцарь бедный“ – тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический. Я сначала не понимала и смеялась, а теперь люблю «рыцаря бедного».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу