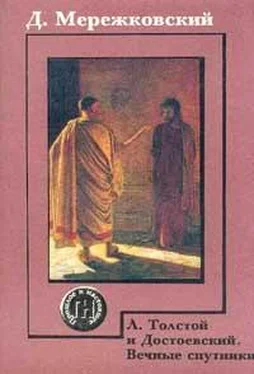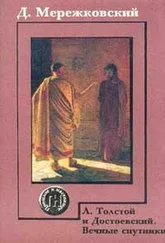Л. Толстой бессознательно не любит и боится истории, как будто чувствует, что ему с нею не справиться; толстовское христианство есть удаление или бегство со всех естественных исторических путей человечества в область отвлеченную, противоестественную, противо-историческую. Живую связь прошлого с будущим, живую цепь религиозной преемственности, то «шествие факелоносцев», которое из века в век, из народа в народ передает горящий факел всемирно-исторической христианской культуры – Л. Толстой разрывает во имя настоящего, только настоящего, – мы видели, с каким насилием. Он хочет быть один во всемирной истории, так же как в русском народе и в русской культуре. Был Сократ, был Конфуций, Будда, Христос – и вот еще Л. Толстой. Но между ним и Христом – никого, кроме разве жалкой горсти английских методистов, американских квакеров, вроде машинных Симонсонов, или буддийских мужичков, вроде Набатовых, да и те, пожалуй, ближе к безбожному Араго, чем ко Христу. Толстовское христианство не выросло из русской или западноевропейской исторической почвы, а как бы с неба упало готовое. Века и тысячелетия христианской культуры не только дядя Влас, но и Сергий Радонежский, и Нил Сорский, и Франциск Ассизский лишь более или менее сознательно распространяли и укрепляли ложь, «шарлатанство», «мошенническую подтасовку жрецов», так что всему историческому христианству, если и не нашедшей, то ведь все же искавшей себя и на Востоке, и на Западе вселенской церкви, этому доныне единственному реальному воплощению идеи всемирного единства, Л. Толстой ничего не умеет противопоставить, кроме либерального, смердяковского: «Про неправду все написано», и столь же либерального, вольтеровского: «écraser l’infamie!» [26]
Никто, может быть, в такой мере, как Достоевский, не понимал того, что окончательные судьбы христианства – выше всех судеб исторических, за всеми историческими судьбами человечества; но он понимал также, что прежде, чем вступить на этот путь сверхисторический, надо пройти до конца, до крайней точки все пути исторические; что прежде, чем наступит бесконечное мгновение, когда «времени больше не будет» , – надо, чтобы раньше все «времена и сроки» исполнились. Религия для Достоевского есть не отрицание, как для Л. Толстого, а высшее утверждение и завершение – преодоление истории. Никто, может быть, в такой мере, как Достоевский, не чувствовал живую связь прошлого с будущим, живую цепь всемирно-исторической религиозной преемственности, из которой нельзя вынуть ни одного звена, не разорвав всей цепи.
Эту-то связь истории с религией, которая в то же время есть связь народа со всемирною культурою, Достоевский и выразил в произведении, недаром написанном тотчас после «Преступления и наказания», в «Идиоте» – в «колоссальном лице» христианском, противопоставленном столь же колоссальному лицу антихристианскому – Раскольникову. Мы видели, как этот последний, с одной стороны, в высшей степени русский, «петербургский тип», «тип петербургского периода русской истории», по выражению самого Достоевского о пушкинском Германе, возможный только в России, только в городе Петра, Медного Всадника, с другой стороны, вышел из Германа, из всех байроновских героев, больших и малых демонов, западноевропейских «бесов», подражателей Наполеона-»антихриста»; и через Подростка еще дальше, еще глубже в глубину Запада, в глубину Пушкина – из Скупого рыцаря, который в самом рыцарстве, то есть в самом расцвете средневекового мистического христианства, воплотил противоположное антихристианское начало, крайнее развитие обособленной аристократической личности, жажду свободы и «уединенного могущества» («С меня довольно сего сознания»); как вышел он таким образом из последних глубин антихристианской или только кажущейся антихристианскою, всемирной культуры. Противоположный близнец Раскольникова, князь Мышкин, Идиот – не менее русский, даже петербургский тип (как царевич Алексей Петрович – необходимый трагический двойник Петра) вышел из последних глубин той же западноевропейской и всемирной, но только уже христианской культуры через другого, противоположного, не Скупого, а Бедного пушкинского рыцаря. Влюбленная в князя Мышкина молодая девушка Аглая читает это стихотворение Пушкина. «Глаза ее блистали, – говорит Достоевский, – и легкая, едва заметная судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу. Она прочла:
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. D. своею кровью
Начертал он на щите.
Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он строго заключен.
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец, умер он».
[27]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу