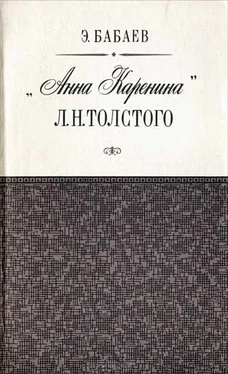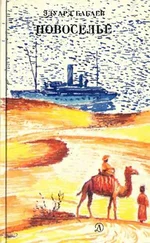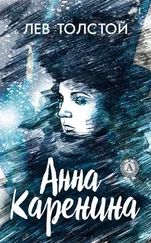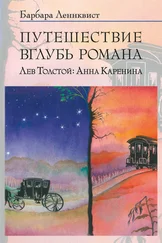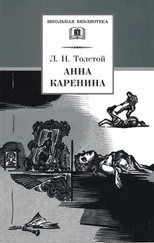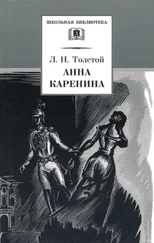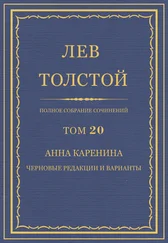Но если бы она не понимала требований нравственного закона, не было бы у нее и чувства вины. Не было бы и никакой трагедии. А она близка Левину именно этим чувством вины, что и указывает на ее глубокую нравственную природу. «Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват», — говорит Левин. А разве не это чувство привело Анну в конце концов к полному расчету с жизнью?
Анна была похожа на «беззаконную комету в кругу расчлененном светил». Но здесь само существование обращается в хаос, который и поглощает ее «державу».
Трагедия Анны тем особенно знаменательна, что в ней нет ничего исключительного, как нет в ней и ничего, что было бы свойственно только ей одной. Она лишь уступала тем требованиям жизни, которые как бы заложены в самой природе человеческого существования.
Долли, например, в отличие от Кити не видит в Анне никаких «роковых» или «дьявольских» примет. «В чем же она виновата? — размышляет Долли. — Она хочет жить». Как это ни странно, именно Долли оправдывает Анну. «А они нападают на Анну, — думает она. — За что? Что ж, разве я лучше?» «Очень может быть, и я бы сделала то же». Вот именно в этом искушении и состоит комплекс Анны Карениной.
Даже Долли признается в том, что и она могла бы поступить так же, как Анна Каренина, если бы… Если бы страсти взяли верх в ее душе.
Исключительным в судьбе Анны Карениной было не нарушение закона во имя «борьбы за существование», а сознание своей вины перед близкими ей людьми, перед самой собой, перед жизнью. Благодаря этому сознанию Анна становится героиней толстовского художественного мира с его высоким идеалом нравственного самосознания.
7
Вопрос о семье, браке и разводе был вопросом времени. Особенную остроту он получил в критическую эпоху 60-х годов. Новые веяния в семейной жизни и требования перемен в законодательстве о браке связывали, и не без оснований, с влиянием на умы современников так называемой «нигилистической литературы».
Господствующей и официально признаваемой формой брака был и оставался церковный брак. Брак, освященный церковью, есть «таинство»; союз заключается «на небесах», поэтому он вечен, нерасторжим и непостижим: «тайна сия велика есть». «О религиозных отношениях между женою и мужем, как христианами, я не буду говорить — понятия об этом установлены учением церкви о таинстве брака», — писал Н. Г. Чернышевский [33] Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. I. М. — Л., 1928, с. 699.
.
Однако церковный брак не решал отношений между мужем и женой, как характерами. Об этом и говорил Чернышевский в своем знаменитом романе «Что делать?», который оказал на современников и многие последующие поколения столь сильное влияние, что с общественным значением этой книги не может сравниться никакое другое произведение русской литературы XIX века.
«Ведь я видела семейную жизнь, — говорит Вера Павловна, мыслящая героиня романа «Что делать?», — …Ведь у меня есть подруги, я же была в их семействах; боже мой, сколько неприятностей между мужьями и женами, — ты не можешь себе представить…» Радикальная мысль, к которой она приходит, имеет свою «краткую формулу»: «так не следует жить людям».
Толстой считал, что и гражданский брак сам по себе не может решить вопросов об отношениях супругов. Что же касается общественных прав женщин, то их домашние права казались Толстому более значительными… Некоторые его общие идеи высказывает в романе старый князь Щербацкий, который смеется над «новыми идеями»: «Все равно, что я бы искал права быть кормилицей и обижался бы, что женщинам платят, а мне не хотят…»
Князь Щербацкий принадлежит к тому же типу «старого помещика», «патриархального семьянина», который был изображен Толстым еще в начале 60-х годов в комедии «Зараженное семейство». Тогда Толстой склонен был считать новые веяния лишь «болезнью» времени. И он саркастически рисовал «семинариста» Твердынского и «либерала» Венеровского, которые «заносят заразу» в честное семейство. Пьеса Толстого была неудачна именно потому, что в ней чувствовалась предвзятая мысль, чувствовалось раздражение автора.
Один только старый помещик Иван Михайлович еще был симпатичен Толстому. Он находил в его привязанности к семье и детям, в его патриархальности какие-то человеческие черты. Но герой пьесы «Зараженное семейство» был крутым и скорым на расправу, уверенным в своей силе и власти. В отличие от него старый князь Щербацкий не так уверен в своей правоте и предпочитает шутить там, где его предшественник готов был взяться за «розги»… Само время переиначило и тему, и ее решение в творчестве Толстого.
Читать дальше