Хорошее письмо прислали вы. Богато светится в простых и ясных словах его ваша бодрость и ясность сознания вами путей к высочайшей цели жизни, путей к цели, которую поставили перед вами и перед всем трудовым народом мира ваши отцы и деды. Едва ли где-нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях природы, в каких вы живете, едва ли где-нибудь возможны дети такие, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей Земли гордыми смельчаками…
…Большие изумительные радости ждут вас, ребята! Через несколько лет, когда, воспитанные суровой природой, вы, железные комсомольцы, пойдете на работу по строительству и дальнейшую учебу, перед вами развернутся разнообразнейшие красоты нашей страны. Вы увидите Алтай, Памир, Урал, Кавказ, поля пшеницы, размером в тысячи гектаров, гигантские фабрики и заводы, колоссальные электростанции, хлопковые плантации Средней АЗИИ, виноградники Крыма, свекловичные поля и фабрики сахара, удивительные города: Москву, Ленинград, Киев, Харьков, Тифлис, Эрйвань, Ташкент, столицы маленьких братских республик — например, Чувашии, столицы, которые до революции очень мало отличались от простых сел.
У вас — снег, морозы, вьюга, а вот я живу на берегу Черного моря. Сегодня — 13 января — первый раз в этом году посыпался бедненький редкий снежок, но тотчас же конфузливо растаял. Весь декабрь и до вчерашнего дня светило солнце с восьми часов утра и почти до половины шестого вечера зимуют чижи, щеглы, зяблики, синицы…»
В конце письма Алексей Максимович приветствует желание игарских пионеров написать книжку.
«Действуйте смелее», — говорит он и тут же прилагает подробный план, в котором заботливо и тонко учтены и ответственность задачи, и возраст авторов.
«Когда рукопись будет готова, — пишет Алексей Максимович, — пришлите ее мне, а я и Маршак, прочитав, возвратим вам, указав, что — ладно и что неладно и требует исправления». [260]
Я уверен, что когда-нибудь соберутся и выпустят отдельной книгой переписку Горького с детьми на протяжении десятков лет.
Эпиграфом к этой книге могли бы послужить слова Пушкина:
…Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего…
Вероятно, те же мысли о «младом, незнакомом племени» были у Горького, когда он читал бесчисленные письма с крупными буквами и не всегда ровными строчками, полученные со всех концов страны. Он сосредоточенно и внимательно читал эти странички, будто вглядываясь в черты нового племени, идущего за нами вслед.
Он не упускал случая поддержать и ободрить ребят в любой их затее, которая казалась ему интересной и значительной.
И в то же время он относился к ребятам строго и требовательно, не снимая с них ответственности, не прощая им неряшливости и небрежности.
Сурово, без снисхождения, отвечает он пензенским школьникам, пожелавшим вступить в переписку с Максимом Горьким и наделавшим при первом же дебюте множество грамматических ошибок.
«Стыдно ученикам 4-го класса писать так малограмотно, очень стыдно», говорил им Горький в своем ответном письме. [261]
Возможно, что школьники не заслужили бы такой отповеди, если бы Алексей Максимович обнаружил в их письме что-нибудь большее, чем желание получить собственноручное письмо от знаменитого человека.
* * *
Алексей Максимович не был и отнюдь не считал себя педагогом.
Он очень осторожно касался вопросов воспитания, в которых признавал себя недостаточно компетентным.
Всерьез и шутя Горький неоднократно говорил о том, что он не воспитатель и не претендует на какой-либо авторитет в этой области.
Осенью 1935 года он писал своим внучкам-школьницам:
«… если вы, многоуважаемые ученые девочки, расскажете про меня учительницам, так они мне зададут перцу за то, что я вам пишу ерунду…». [262]
Конечно, Горький прекрасно знал, что настоящие педагоги не боятся ни игры, ни шутки, ни всей той милой «ерунды», которая так чудесно сближает детей и взрослых. Он знал, что настоящие педагоги рады, когда к ним на помощь со стороны приходят люди с талантом, юмором, с богатым жизненным опытом.
Я видел страшную фотографию, которую, вероятно, не смогу забыть никогда. Тяжело привалившись к стене, сидит мертвый ребенок — мальчик лет двенадцати. Немцы не пожалели на него пуль. Лицо его обезображено, глаза выбиты. В руках он сжимает комок окровавленных перьев, — это все, что осталось от его любимого голубя.
Читать дальше
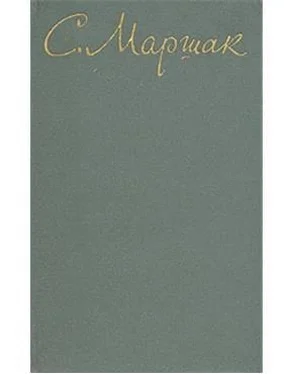

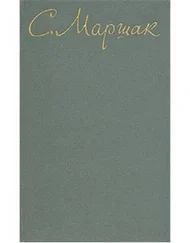
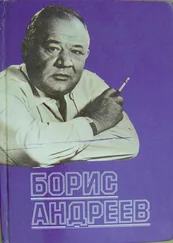

![Юрий Смолич - Рассказ о непокое [Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни минувших лет]](/books/404255/yurij-smolich-rasskaz-o-nepokoe-stranicy-vospominan-thumb.webp)
